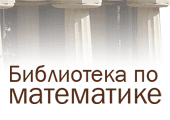
15. Нанси, кибернетика, Париж и после Парижа. 1946-1952
Летом 1946 года во Франции, в университете города Нанси, должна была состояться организованная группой ученых математическая конференция по гармоническому анализу. Меня пригласили принять в ней участие. По существу большая часть вопросов, которые предстояло обсудить на конференции, была непосредственно связана с вещами, которыми я занимался. Я отплыл на голландском пароходе в Англию и, прежде чем поехать на конференцию, нанес свой обычный визит английским друзьям и их стране. В этот приезд я побывал в университетском колледже в Лондоне, где преподавал Дж. Б. С. Холдейн. Он развелся с первой женой и теперь был женат вторично на блестящей молодой даме, специалистке в области генетики, помогавшей ему во время войны проводить физиологические опыты по изучению влияния различных газов под высоким давлением на человеческий организм.
Надев водолазные костюмы, они оба по нескольку раз погружались в стальные цистерны с водой; в костюмы нагнетались газы, давление которых повышалось до тех нор, пока они не становились настолько ядовитыми, что у Холдейна и его будущей жены начинались конвульсии. Я верю, что Холдейн четыре раза доводил себя до судорог, а его помощница - семь. Это вполне соответствует и стилю Холдейна, который обычно для самых невероятных физиологических испытаний использует не морских свинок, а самого себя, в его бесстрашию, которое он продемонстрировал еще раньше во время войны, избрав своей специальностью поиски и разрядку вражеских мин, выброшенных на побережье.
Вообще Холдейн принадлежит к тому типу людей, которые с готовностью подвергают себя опасности и спокойно мирятся с неудобствами и неприятностями, когда это нужно для работы, которую они считают важной. Хотя по натуре он более рационалистичен, в нем есть что-то напоминающее мне необузданность Пэли.
Живя у Холдейнов, я с удовольствием проводил время, навещая своих коллег в Национальной физической лаборатории в Теддингтоне, в Лондонском, Манчестерском и Кембриджском университетах. Я узнал, что в Манчестерском университете готовятся приступить к работе с быстродействующими счетными машинами. В Национальной физической лаборатории Тьюринг занимался исследованиями в той же области, объединяющей математическую логику и электронику, в которой с таким блеском работал Шеннон в Соединенных Штатах. Короче говоря, я нашел, что научная обстановка в Англии вполне благоприятствует восприятию моих новых идей, касающихся контроля, связи и организации.
В сущности, к тому времени, когда я оказался в Париже, у меня уже появилось желание написать исчерпывающую книгу на эту тему. В Парияш кто-то из преподавателей МТИ познакомил меня с одним из самых интересных людей, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться с издателем Фрейманом из фирмы "Герман и К°".
Фрейман, который, к сожалению, совсем недавно умер, oбыл мексиканцем и впервые приехал в Париж вместе с мексиканской дипломатической миссией в качестве атташе но делам культуры. Один из его прадедов, капитан дальнего плавания, немец по национальности, уйдя в отставку, поселился в области Тепик на западном побережье Мексики. Другой прадед Фреймана был вождем индейского племени Хуичоль из той же области. Обе его прабабки родом из Испании. Фрейман держал маленькую невзрачную книжную лавочку напротив Сорбонны, куда время от времени заглядывал кто-нибудь из светил науки или какой-нибудь блестящий представитель парижской интеллигенции; сам он в это время с наслаждением рассказывал мне, как каждый из прадедов пытался уберечь его от влияния другого, причем один без конца твердил, что он европеец, а другой неустанно напоминал, что он индеец.
Мы долго беседовали о Мексике, и, наконец, разговор вашел о моей научной работе. Тогда Фрейман приступил к делу, которое интересовало его больше всего. Он спросил, не изложу ли я свои идеи о связи, заводах-автоматах и нервной системе в брошюре для одной из его серий?
Фрейман рассказал мне, что он зять прежнего издателя Германа, после смерти которого он оказался единственным членом семьи, захотевшим продолжать дело. Фрейман говорил о множестве уловок, к которым ему пришлось прибегнуть, чтобы добиться заключения издательских договоров с рядом научных обществ, и как он использовал эти договора для создания действительно серьезного издательства, настолько свободного от коммерческих соображений, насколько это вообще возможно для издательства.
Я уже слышал о странной группе французских математиков, объединившихся под общим псевдонимом "Бурбаки"; этот псевдоним возник в результате мистификации, которую затеяли несколько студентов, начав писать книги и статьи под именем одного давно умершего французского генерала. Фрейман сказал, что практически организовал эту группу он и что теперь он же собирается расширить ее деятельность, поддержав создание нового вымышленного университета, названного в честь двух современных математических школ в Нанси и Чикаго "Университет Нанкаго".
Мне показалось вполне забавным принять участие в работе этой интересной группы. Я дал согласие Фрей-ману написать книгу, и мы скрепили договор за чашкой какао в соседней patisserie*.
* ( Кондитерской (франц.).)
Все это время я поддерживал связь с Маидельбройтом, который по существу был организатором конференции в Нанси. Мы вместе занимались некоторыми математическими проблемами и вместе поехали на конференцию на маленьком скоростном дизеле, который тогда уже заменил экспресс на линии между столицей и Нанси. Меня, так же как всех важных иностранцев, поместили в прекрасном отеле, который составляет часть четырехугольного ансамбля зданий, окружающих площадь Станислава.
Слава этого квартала началась еще в XVIII веке, когда бывший король Польши стал князем лотарингским. Как столица Напои в то время чуть ли не соперничал с Парижем и Версалем. Говорят, что придворный этикет в Нанси был даже строже, чем в Версале. В конце концов это привело к смерти самого князя. Рассказывают, что однажды, гуляя навеселе по крыше, князь упал в один из дымоходов, и, так как поблизости не оказалось ни одного лица достаточно высокого ранга, чтобы прикоснуться к персоне короля, он так и лежал там, пока не задохнулся.
Отель, в котором я остановился, был штаб-квартирой иностранных гостей. Там жили Харальд Бор из Дании, Карлеман из Швеции, Островский из Базеля и милый старый папа Планшерель из Цюрихского федерального технологического института. Младшее поколение представляли Иессен из Дании и Бёрлинг из Швеции.
Харальд Бор и Карлеман теперь уже умерли. Смерть Карлемана особенно трагична, потому что это типичная смерть скандинава, хорошо известная всем, кто знаком с пьесами Ибсена и Стриндберга. Карлемана погубило пьянство; не то компанейское пьянство, которое часто приводит к разорению, а непреодолимый сжигающий человека алкоголизм - заболевание, распространенное даже в избранных кругах скандинавского общества. На конференции он часто бывал нетрезв. Потом в Париже я воздел его дома у Маидельбройта, куда он приходил, чтобы заранее получить обещанные ему деньги на дорогу; у него были красные глаза и трехдневная борода.
Из множества людей, собравшихся в Нанси, я чаще всего виделся с Лораном Шварцем. Он был женат на дочери Поля Леви, которую я встречал год назад, навещая ее отца в Пуг-лез-О. Шварц занимался вопросами, очень сходными с теми, которыми интересовался я сам. Он обобщил еще дальше тот обобщенный гармонический анализ, которому была посвящена моя старая статья в "Акта математика". Шварц свел его к высоко абстрактным положениям, характерным для школы Бурбаки, к которой он тоже принадлежал.
Нас, гостей, каждого в отдельности и всех вместе всячески привлекали к участию в светской жизни маленького города. Франция переживала тогда трудное и суровое время; вместо вина пили виноградный сок, чудесный; французский хлеб на пятьдесят процентов состоял из кукурузы, но наши хозяева изо всех сил старались превзойти радушием один другого. Можно было не сомневаться, что если в первый вечер нам предложили три сорта печенья, во второй во что бы то ни стало будет четыре, а в третий - пять. На всех этих вечерах неизменно присутствовали мсье ректор, мсье мэр и мсье префект. Мы уехали с убеждением, что мсье ректор, мсье мэр и мсье префект вместе с их женами годами неизменно встречаются друг с другом. Жизнь, которую мы здесь наблюдали, свидетельствовала о процветании учтивости, культуры, воспитания, но она оставляла впечатление такой чопорности, что по сравнению с Нанси любой маленький городок Новой Англии казался обителью социальной свободы.
В то время, о котором я пишу, университет в Нанси меньше других провинциальных университетов страдал от воздействия центростремительной силы Парижа. Теперь Шварц, в согласии с общепринятым каноном академической карьеры, конечно, перешел уже в столицу. Но тогда Нанси был прекрасным местом для иностранных математиков, которые приезжали, чтобы познакомиться с лучшими сторонами французской университетской жизни, и стремились войти в контакт с молодыми французскими учеными, находящимися в расцвете сил и только начинающими свою карьеру. Сейчас, судя по некоторым признакам, университет в Нанси снова впадает в спячку, характерную для французской провинции.
Конференция прошла с большим успехом, и нам удалось очень хорошо поработать. После конференции я вернулся в Париж. Потратив несколько дней на статью, которую мы начали писать вместе с Булиганом, и обсудив свои дела с Фрейманом, я пересек Ла-Манш и, прежде чем сесть на пароход в Саутгемптоне, еще немного побыл в Англии.
Сейчас мне кажется, что именно во время этой второй поездки я снова побывал в Оксфорде и даже еще западнее, в Бристоле, где встретился с Греем Уолтером, который познакомил меня со своей исключительно интересной работой в области электроэнцефалографии.
Ричард Кэтен занимался в Англии изучением электроэнцефалограмм животных еще в 1875 году, но первые наблюдения за электрическими потенциалами, распределяющимися на человеческом черепе, осуществил немец Ганс Бергер. Потенциалы, которые он наблюдал, обязаны своим происхождением электрохимической активности мозга и меняются при различных нервных и мозговых расстройствах, однако эти изменения не так легко поддаются расшифровке. Вначале, когда ученые вплотную занялись изучением физиологии мозга, на эти явления возлагались очень большие надежды; в случаях заболевания эпилепсией и при угрозе эпилепсии они действительно давали какие-то характерные изменения, поддававшиеся прочтению.
Помимо закономерностей, связанных с эпилепсией, существуют некоторые другие регулярные мозговые волны, которые при соответствующих условиях тоже поддаются наблюдению. Самое отчетливое и стойкое из этих явлений, так называемый альфа-ритм, представляет собой колебания с периодом приблизительно в одну десятую секунды.
Искусство чтения таких нерегулярных колебаний - вещь очень сложная, и многое из того, что они могут сказать, недоступно невооруженному глазу. Как я уже говорил в предыдущей главе, рассказывая об исследованиях в области физиологии, которые мы проводили вместе с Лртуро Розенблютом, мне недавно удалось разработать математический аппарат, помогающий наблюдателю давать более определенные заключения о мозговых волнах. Сейчас этой проблемой занимаются научные сотрудники МТИ и Главной массачусетской больницы.
Д-р Грей Уолтер, хотя и американец по происхождению, так долго жил в Европе, что может считаться одним из вождей европейских ученых, занимающихся электроэнцефалографией, т. е. изучением мозговых волн. Уолтер полон энтузиазма и энергии; он изобрел прибор, с помощью которого можно получить исчерпывающую картину мозговых волн в различных частях мозга. Нет сомнений, что эта картина окажется интересной и полезной при изучении нормальной физиологии мозга и при диагностировании мозговых расстройств. Однако она более обобщена и менее точна в математических деталях, чем те данные, которыми мы пользуемся в наших исследованиях. По существу научный подход Уолтера скорее напоминает подход художника-графика, чем математика.
Уловив приблизительно в то же время, что и я, аналогию между обратной связью в машине и нервной системой человека, Уолтер начал конструировать механизмы, которые повторяли бы некоторые особенности поведения животных. Я работал над созданием "мотылька", который автоматически летел бы на свет. Уолтер назвал свои автоматы "черепахами", включив в их репертуар более сложные номера. "Черепахи" были снабжены устройством, помогавшим им не сталкиваться друг с другом при движении, и, кроме того, приспособлением, благодаря которому, чувствуя "голод", т. е. истощение аккумуляторных батарей, они направлялись к специальному "месту кормления", где глотали электричество до тех пор, пока аккумуляторные батареи не перезаряжались.
Я возвращался домой из Саутгемптона на том же голландском корабле, на котором плыл в Англию. Во время обоих рейсов большинство пассажиров состояло из голландских крестьян, эмигрировавших в Америку и осевших в штате Мичиган в окрестностях города Гранд Рэпидс. В основном это были выходцы из фермерских семей, получившие строгое кальвинистское воспитание, которое так распространено в Голландии. Все они впервые после войны ездили домой, чтобы повидаться с родными, тяжело пострадавшими во время военных событий; эмигранты многое делали для восстановления Голландии. Боюсь, что я сильно подмочил свою репутацию, выругавшись пару раз по-голландски, - даже на фермах Новой Англии никто так не ежился, услышав что-либо подобное.
Попав в курительную комнату, эти простые, достойные всяческого уважения люди доставали из-за пояса бутылки, выпивали стаканчик-другой голландского джина и начинали петь старинные голландские песни и танцевать на старый голландский манер, точь-в-точь, как это изображено на картинах Яна Стена, Адриена Броуэра и Брейгеля старшего. Одежда стала иной, но физиономии степенных фермерш и их подвыпивших здоровяков-мужей остались все такими же; даже песни и, как мне казалось, некоторые танцы вели свою родословную с XVII века.
Вернувшись в Соединенные Штаты, я узнал, что мне нужно возобновить работу в Мексике. В то лето моя дочь Барбара не очень знала, что ей делать, и мы поехали вместе. Я начал еще одну нейрофизиологическую работу вместе с Артуро, продолжая встречаться с той же группой людей и ведя почти такой же образ жизни, как в свои предыдущие приезды. Мы с Барбарой (позднее к нам присоединилась и Маргарет) поселились в многоквартирном доме, построенном в новом жилом квартале на месте бывшего ипподрома; нам даже принадлежала часть сада на крыше, откуда мы могли любоваться снегами Попокатепетля* и Истаксиуатлы.** В том же доме жила молодая супружеская пара, приехавшая из Америки. Муж тоже работал в Институте кардиологии, и мы часто обсуждали с ним книгу по теории прогнозирования и автоматическому управлению, которую я обещал написать для Фреймана.
* (Вулкан на юго-востоке Мексики.)
** ( Гора к северу от вулкана Попокатепетля.)
Я упорно трудился, но с первых же шагов был озадачен необходимостью придумать заглавие, чтобы обозначить предмет, о котором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл "передающий сообщение", но я знал только слово "angelos". В английском языке "angel" - это ангел, т. е. посланник бога. Таким образом, слово "angelos" было уже занято и в моем случае могло только исказить смысл книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово kybernetes, обозначающее "рулевой", "штурман". Я решил, что, поскольку слово, которое я подыскивал, будет употребляться по-английски, следует отдать предпочтение английскому произношению перед греческим. Так я напал на название "Кибернетика". Позднее я узнал, что еще в начале XIX века это слово использовал во Франции физик Ампер, правда, в социологическом смысле, но в то время мне это было неизвестно.
В слове "кибернетика" меня привлекало то, что оно больше всех других известных мне слов подходило для выражения идеи всеобъемлющего искусства регулирования и управления, применяемого в самых разнообразных областях. Много лет назад Венивар Буш в разговорах со мной предположил, что для того, чтобы овладеть процессами управления и организации, нужно создать какой-то новый научный аппарат. В конце концов я начал искать этот аппарат в теории связи. Мои ранние работы по теории вероятностей и, в частности, по изучению брауновского движения убедили меня, что осмысленное представление об организации невозможно для мира, где все обусловлено и для случайности не осталось места. Такой негибкий мир можно назвать организованным только в том смысле, в каком организован мост, все детали которого жестко скреплены друг с другом. В подобном сооружении каждая деталь зависит от всех остальных и все части постройки играют одинаково важную роль. В результате на этом мосту нет участков, которые могли бы принять на себя наибольшее напряжение, и если только он не сделан целиком из материалов, могущих выдержать без заметных деформаций большие внутренние напряжения, то почти наверняка концентрация напряжений приведет к тому, что мост рухнет, лопнув или разорвавшись в том или другом месте.
На самом деле мост, как любое другое строение, выдерживает нагрузку только потому, что он не является стопроцентно жестким. Аналогичным образом любая организация может существовать, только если составляющие ее части в большей или меньшей степени способны реагировать на присущие ей внутренние напряжения. Таким образом, мы должны рассматривать организацию как нечто обладающее взаимосвязью между отдельными организованными частями, причем взаимосвязь эта не единообразна. Связи между одними внутренними частями должны играть более важную роль, чем между другими, иными словами, связи внутри организации не должны быть абсолютно устойчивыми, чтобы строгая определенность одних ее частей не исключала возможности изменения каких-то других. Эти изменения, различные в различных случаях, неизбежно носят статистический характер, и поэтому только статистическая теория обладает достаточной гибкостью, чтобы в своих рамках придать понятию организации разумный смысл.
Итак, я был вынужден снова вернуться к работе Уилларда Гиббса и к концепции, согласно которой мир рассматривается не как отдельный изолированный феномен, а как элемент множества "возможных миров", характеризующихся определенным распределением вероятностей. При этом мне пришлось считать, что причинность есть нечто, могущее присутствовать в большей или меньшей степени, а не только просто быть или не быть.
Основой моих идей в области кибернетики послужили все те проблемы, которыми я занимался раньше. Интерес к теории связи привел меня к теории информации и прежде всего к вопросу об информации о всей системе в целом, содержащейся в сведениях об одной какой-либо ее части. Так как я занимался гармоническим анализом и знал, что в случае непрерывного спектра приходится обращаться к рассмотрению функций и кривых, слишком нерегулярных для того, чтобы их можно было изучать с помощью средств классического анализа, у меня выработалось свое отношение к нерегулярности, из которого родилось представление о существенной нерегулярности вселенной. Так как я много работал в тесном контакте с физиками и инженерами, я хорошо знал, что наши данные никогда не могут быть абсолютно точными. А познакомившись со сложным механизмом нервной системы, я осознал, что мир, который нас окружает, воспринимается нами только с ее помощью и что вся наша информация о мире ограничена возможностью передачи информации по нервным волокнам.
Мое первое детское эссе по философии, написанное в средней школе, когда мне не было еще одиннадцати лет, не случайно называлось "Теория невежества". Уже тогда меня поразила невозможность создания идеально последовательной теории с помощью такого несовершенного механизма, как человеческий разум. Занимаясь под руководством Бертрана Рассела, я не мог заставить себя поверить в существование исчерпывающего набора постулатов логики, не оставляющего места ни для какого произвола в пределах определяемой им системы. Таким образом, не владея великолепной техникой Гёделя и его последователей, я тем не менее предвидел некоторые критические замечания, которые они позднее выдвинули против Рассела, создав реальную основу для отрицания существования какой бы то ни было единой замкнутой в себе логики, неизбежно и вполне определенно следующей из конечного числа исходных правил.
Я никогда не представлял себе логику, знания и всю умственную деятельность как завершенную замкнутую картину; я мог понять эти явления только как процесс, с помощью которого человек организует свою жизнь таким образом, чтобы она протекала en rapport* с внешней средой. Важна битва за знание, а не победа. За каждой победой, т. е. за всем, что достигает своего апогея, сразу же наступают "сумерки богов", в которых само понятие победы растворяется в тот самый момент, когда она достигнута.
* (В соответствии (франц.).)
Мы плывем вверх по течению, борясь с огромным потоком дезорганизованности, который, в соответствии со вторым законом термодинамики, стремится все свести к тепловой смерти, всеобщему равновесию и одинаковости. То, что Максвелл, Больцман и Гиббс в своих физических работах называли тепловой смертью, нашло своего двойника в этике Киркегора*, утверждавшего, что мы живем в мире хаотической морали. В этом мире наша первая обязанность состоит в том, чтобы устраивать произвольные островки порядка и системы. Эти островки не существуют вечно в том виде, в котором мы их некогда создали. Подобно Красной королеве** мы должны бежать со всей быстротой, на которую только способны, чтобы остаться на том месте, где однажды остановились.
* (Киркегор Серен (1813-1855) -датский философ.)
** (Персонаж книги Льюиса Кэррола "Алиса в Зазеркалье"; в стране за зеркалом, где царствовала Красная королева, Земля двигалась таким образом, что тот, кто хотел остаться на месте, должен был бежать изо всех сил.)
Мы вовсе не боремся за какую-то определенную победу в неопределенном будущем. Величайшая из всех побед - это возможность продолжать свое существование, знать, что ты существовал. Никакое поражение не может лишить нас успеха, заключающегося в том, что в течение определенного времени мы пребывали в этом мире, которому, кажется, нет до нас никакого дела.
Это не пораженчество; скорее, это ощущение трагичности мира, в котором необходимость представлена как неизбежность исчезновения дифференциации. Требования нашей собственной натуры, попытка построить островок организованности перед лицом преобладающей тенденции природы к беспорядочности - это вызов богам и вместе с тем ими же созданная железная необходимость. В этом источник трагедии, но и славы тоже.
Вот те идеи, которые я стремился обобщить в моей книге о кибернетике. Моя первая задача была вполне конкретна и довольно ограничена. Мне хотелось рассказать о новой теории информации, созданной Шенноном и мной, и о новой теории прогнозирования, основы которой были заложены довоенной работой Колмогорова и моими исследованиями, касающимися учета будущего движения самолета при зенитной стрельбе. "Желтая опасность" была доступна ограниченному кругу людей, а мне хотелось, чтобы более широкие слои общества узнали о связи между этими идеями и увидели, в чем состоит новый статистический подход к инженерным задачам связи. Кроме того, я хотел, чтобы представители этих более широких слоев обратили внимание на множество аналогий между человеческой нервной системой, с одной стороны, и вычислительными машинами и системами автоматического регулирования, с другой (т. е. тех аналогий, которые вызвали мою совместную работу с Розенблютом). Но я не мог разрешить этих задач, не составив описи всего своего научного багажа. Почти с самого начала мне стало ясно, что новые концепции связи и управления влекут за собой новое понимание человека и человеческих знаний о вселенной и обществе.
Возможность передавать и получать информацию совсем не является привилегией людей, поскольку обнаружено, что в различной степени этой же способностью обладают, во всяком случае, млекопитающие, птицы, муравьи и пчелы; но какая бы информация ни содержалась в криках и брачных танцах птиц, в беззвучных танцах пчел, с помощью которых они указывают своим товарищам по ульям, в каком направлении и на каком расстоянии находятся источники меда, и что бы ни означали остальные способы сообщения, которые мы как раз сейчас начинаем понимать, язык человека все равно гораздо более развит и гибок, чем язык животных, и потому с ним связаны проблемы совсем особого рода.
Кроме явной множественности языков и широких возможностей, заключенных в каждом индивидуальном языке как в способе самовыражения, уже одно то, что обширные разделы мозга заняты, очевидно, управлением различными аспектами речи, слуха, чтения и письма, свидетельствует об исключительном значении, которое имеет для людей тонко развитая система связи.
Поддерживать связь с внешним миром - это значит получать сообщения из внешнего мира и посылать ответные сообщения. С одной стороны, это значит наблюдать, экспериментировать и учиться, с другой - осуществлять свое влияние на внешний мир так, чтобы наши действия были целенаправлены и эффективны. Экспериментирование по существу есть одна из форм двустороннего общения с внешним миром, в процессе которого мы употребляем исходящие команды для того, чтобы определять условия поступления наблюдений, и одновременно используем поступающие наблюдения, чтобы увеличивать эффективность исходящих команд.
Обмен информацией - цемент, скрепляющий общество. Общество - это не просто множество индивидуумов, сталкивающихся друг с другом для раздоров и воспроизведения себе подобных, общество - это совокупность индивидуумов, тесно связанных между собой и образующих один большой организм. Общество обладает своей собственной памятью, гораздо более емкой и разносторонней, чем память любого входящего в него члена. В тех человеческих коллективах, которым настолько повезло, что они обладают хорошей письменностью, значительная часть общих традиций хранится в письменном виде, но существуют общества, которые и без письменности сохранили свои традиции, например в форме ритуальных родовых песен и устных сказаний.
Социология и антропология - прежде всего науки о связях, поэтому они входят в кибернетику. Частный раздел социологии, известный под названием экономики и отличающийся от других главным образом более аккуратным использованием числовых мер для рассматриваемых величин, тоже представляет собой раздел кибернетики благодаря кибернетическому характеру самой социологии.
Каждая из этих областей вносит свою долю в создание общей кибернетической идеологии, хотя многие из них еще недостаточно точны, чтобы здесь стоило использовать математический аппарат, которым обладают более развитые дисциплины.
Помимо той роли, которую кибернетика играет в этих уже известных науках, она оказывает большое влияние на философию науки, в частности на научную методологию и эпистемологию, или учение о познании. Прежде всего, статистический подход, так ярко проявившийся в кибернетике и в моих ранних исследованиях, принуждает нас по-новому отнестись к понятиям порядка или регулярности. Идеальная информация не содержит в себе ничего поддающегося измерению, следовательно, доступная измерению информация не может быть идеальной. Если мы в состоянии измерить степень причинности (а значительная часть моих работ по теории информации посвящена доказательству того, что это вполне в наших силах), то это происходит только потому, что вселенная представляет собой не абсолютно жесткую структуру, а нечто, допускающее небольшие изменения в различных частях. Тогда, очевидно, можно пронаблюдать, насколько изменения в одной части вызывают изменения в других.
Таким образом, с точки зрения кибернетики мир представляет собой некий организм, закрепленный не настолько жестко, чтобы незначительное изменение в какой-либо его части сразу же лишало его присущих ему особенностей, и не настолько свободный, чтобы всякое событие могло произойти столь же легко и просто, как и любое другое. Это мир, которому одинаково чужда окостенелость ньютоновой физики и аморфная податливость состояния максимальной энтропии или тепловой смерти, когда уже не может произойти ничего по-настоящему нового. Это мир Процесса, а не окончательного мертвого равновесия, к которому ведет Процесс, и это вовсе не такой мир, в котором все события заранее предопределены вперед установленной гармонией, существовавшей лишь в воображении Лейбница.
В таком мире знание есть квинтэссенция процесса познания. Нет никакого смысла искать знания при асимптотическом состоянии вселенной, к которому она, быть может, стремится при неограниченном увеличении времени, так как это асимптотическое состояние (если оно существует) заключается в полной одинаковости, безвременности, бессмысленности и беззаконности. Знание есть один из аспектов жизни: если мы нуждаемся в объяснениях, то только потому, что мы живы. Жизнь представляет собой непрерывное взаимодействие между индивидуумами, а не просто способ существования, протянутый в вечность.
Я привожу здесь все эти положения, чтобы показать, каким образом я пытался добавить, как мне казалось, что-то положительное к пессимизму Киркегора и тех писателей, которые видели в нем своего вдохновителя. Среди этих последних наиболее значительную группу составляют экзистенциалисты. Я не стремился противопоставить представлению о беспросветности существования какую-нибудь оптимистическую философию в любом из вариантов оптимизма Польяны*, но я был, по крайней мере, убежден в совместимости моих предпосылок, недалеко ушедших от предпосылок экзистенциалистов, с положительным отношением к миру и к нашему существованию в мире.
* ( Главная героиня нескольких романов американской писательницы Элеоноры Портер (1868-1920), отличающаяся неизменной бодростью и жизнерадостностью.)
Вот основные идеи, над которыми я размышлял, работая над книгой по кибернетике. Я обсуждал их с Артуро и с физиологом-американцем, который оказался нашим соседом по дому. Мы все надеялись, что эти мысли найдут какой-то отклик, хотя никто из нас, включая и меня, не мог представить себе, какое волнение они вызовут, появившись в печати.
Меня мучили угрызения совести за то, что я отрывал столько времени от нашей совместной работы с Артуро. Я немного успокаивал себя тем, что виноваты в этом обстоятельства, которые ни я, ни он не могли изменить. Артуро принадлежит к числу людей, хорошо работающих во вторую половину дня и вечерами; по-настоящему он загорается часам к 3-4 дня и сидит далеко за полночь. Я работаю утром, лучше всего сразу после того, как проснусь; к двум часам дня я начинаю остывать, а после того как стемнеет, уже совершенно не могу заниматься творческой работой. Из-за этого расхождения в нашем сотрудничестве оказалось много пробелов, которые я мог заполнить только какой-то самостоятельной работой и, естественно, заполнял "Кибернетикой".
В работе над этой книгой меня еще пришпоривало случайное стечение обстоятельств: мои финансовые дела по временам принимали довольно скверный оборот, и я волей-неволей должен был отдавать всю энергию новому начинанию, ставшему краеугольным камнем моей дальнейшей карьеры. Счета сыпались со всех сторон, а я не накопил никаких богатств, чтобы компенсировать растущие расходы. Я решил сделать то, что делали многие другие писатели: писать по возможности столько, сколько нужно, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь. Забегая немного вперед, я должен сказать, что мне это вполне удалось и, хотя писательство никогда не обещало сделать меня богатым человеком, именно "Кибернетика" положила начало моему теперешнему экономическому благополучию.
Тем временем подошел второй семестр учебного года в МТИ, и я начал готовиться к возвращению домой. Перед самым отъездом я кончил книгу и отослал ее Фрейману в Париж. С меня свалилась огромная тяжесть, и я провел оставшиеся дни, посещая Таско* и развлекаясь со своими мексиканскими друзьями.
* (Город недалеко от Мехико, известный своими художественными ремесленными изделиями.)
В течение нескольких лет у меня на глазах развивалась катаракта; к тому времени, о котором я сейчас пишу, болезнь зашла так далеко, что начала серьезно мешать мне читать. Оставался единственный выход - удалить хрусталик обоих глаз. Операция глаза, естественно, доставляет достаточно много волнений. Но мне очень повезло, так как нашелся окулист, не только внушавший мне полное доверие, но и сумевший психологически правильно меня подготовить. В результате первая операция показалась мне менее тяжким испытанием, чем я ожидал, и, когда подошло время, у меня хватило душевных сил перенести операцию на втором глазу и несколько менее ответственных операций на обоих глазах, которые были необходимы, чтобы возвратить мне как можно больший процент зрения.
Моя близорукость и операции катаракты в значительной мере уравновесили друг друга. В конечном счете я теперь довольно сносно читаю и вижу без очков на большем расстоянии лучше, чем раньше. Правда, после операций я стал довольно чувствителен к чрезмерному свету и к длительному напряжению. Из-за этого мне пришлось изменить свои рабочие навыки, но изменения эти в некоторых отношениях оказались даже к лучшему.
Сейчас я записываю большую часть своих математических работ на доске, а не на бумаге, что избавляет меня от неприятной необходимости смотреть то прямо перед собой, то вдаль, для чего мне нужны бифокальные или трифокальные очки. Кроме того, я вынужден был пожертвовать привычкой самому делать записи от руки или на машинке и начал прибегать к помощи опытных секретарей, что сделало мою работу более эффективной.
Сам процесс письма для человека с моей физической неловкостью - тяжкий крест, и антипатия, которую я питал к этому занятию, отражалась на стиле того, что я писал, внося элемент раздраженности в каждую мою литературную работу. Теперь я был избавлен от всех этих неприятностей; после глазных операций я стал до такой степени человеком литературы, что раньше сам бы в это никогда не поверил.
Я всегда считал, что литература существует, по меньшей мере, столько же для уха, сколько для глаза. Возникновение этого убеждения в значительной степени связано с тем периодом моей жизни, когда в возрасте восьми лет я шесть месяцев не мог ни читать, ни писать и все, чему меня учили, вынужден был воспринимать на слух. Когда диктуешь свою работу, появляется ощущение звучания того, что пишешь, и это ощущение мне очень приятно. Я обладаю памятью значительно выше средней, и невозможность делать заметки для меня не такая уж проблема. Когда мне приходит в голову идея, требующая более подробного изложения, я диктую секретарей и мы вместе стремимся достигнуть плавности переходов от одной части к другой.
Я привык делать все изменения сразу и тоже с помощью секретаря, поэтому безличность записывающего аппарата внушает мне отвращение. Если женщина, выполняющая обязанности моего секретаря, - человек необразованный и не обладает вкусом, она не справится со своей работой; мне нужно, чтобы она была в состоянии критиковать и постоянно критиковала то, что я ей диктую, проявляя свое отношение какими-нибудь замечаниями или любым другим способом. Благодаря такому сотрудничеству возникает процесс, который, пользуясь кибернетическим словарем, я должен назвать процессом обратной связи; все его преимущества я и стараюсь использовать.
Кроме того, диктуя, я делаю долгие паузы, обдумывая, что сказать дальше; во время этих пауз я вряд ли в состоянии вспомнить, что надо выключить записывающее устройство стоящей передо мной проклятой машины, а возобновив диктовку, включить его снова.
Я показал рукопись своей книги о кибернетике руководителям МТИ и сотрудникам институтского издательства "Текнолоджи пресс". В издательстве очень заинтересовались книгой и уверили меня, что смогут найти какой-нибудь способ опубликовать ее в Америке.
С одной стороны, это было нетрудно, так как книга, хотя и предназначалась для французской серии, была написана по-английски. Но, с другой стороны, поскольку я передал все права на ее издание Фрейману (книга была принята к изданию сейчас же по получении), прежде чем воспользоваться его матрицами для офсетной перепечатки американского издания, нужно было уладить целый ряд юридических и моральных сложностей.
Когда все вопросы были, наконец, разрешены, "Текнолоджи пресс" вместе с издательством "Джон Уайли и сыновья" приступили к публикации книги. Кстати, эти два издательства примерно в то же время вторично опубликовали "Желтую опасность".
Фрейман не очень высоко оценивал коммерческие перспективы "Кибернетики", как, впрочем, и остальные мои знакомые по обе стороны океана. Когда "Кибернетика" стала научным бестселлером, все были поражены, и я не меньше других.
Появление книги в мгновение ока превратило меня из ученого-труженика, пользующегося определенным авторитетом в своей специальной области, в нечто вроде фигуры общественного значения. Это было приятно, но имело и свои отрицательные стороны, так как отныне я был вынужден поддерживать деловые отношения с самыми разнообразными научными группами и принимать участие в движении, которое быстро приняло такой размах, что я уже не мог с ним справиться.
"Кибернетика" представляла собой новое изложение ряда вопросов, о которых я никогда раньше не писал с абсолютной уверенностью, и в то же время это было некое полное собрание моих идей. Книга появилась в неряшливом виде, так как корректуры проходили в то время, когда неприятности с глазами лишили меня возможности читать, а молодые ассистенты, которые мне помогали, отнеслись к своим обязанностям недостаточно серьезно.
После опубликования книги, которая заслужила хорошие отзывы и, как я уже говорил, пользовалась совершенно неожиданным коммерческим успехом, на меня со всех сторон посыпались заказы на более или менее популярные статьи и приглашения выступать с публичными лекциями. В течение некоторого времени я принимал все эти лестные предложения говорить и писать, в результате чего у меня появилось новое и, наверное, ложное ощущение собственной значительности.
Потом мне пришлось убедиться, что если я хочу сделать еще что-нибудь для науки и сохранить сколько-нибудь сносное здоровье, я должен беречь свои силы. В общем, чтение лекций ни в смысле денег, ни в смысле завоевания положения не компенсировало той усталости, которую оно приносило. К тому же на горьком опыте я узнал, сколько сил должен тратить лектор, чтобы защитить себя от эксплуатации.
По этим же причинам я решительно отказался давать консультации инженерам. В той области, в которой я работаю, люди, приходящие консультироваться, гораздо больше заинтересованы в моем имени, чем в моих идеях. А пытка, которой подвергается человек, чувствуя на себе любопытные взгляды целой смены инженеров какой-нибудь компании или встречаясь и вступая в общение с группой незнакомых людей, заинтересованных прежде всего в том, чтобы выжать его досуха, и занимающихся вымогательством, соблюдая все правила вежливости, - это пытка, которую инквизиторы просто забыли включить в свой репертуар.
За это время мои дочери успели кончить колледж и перейти из возрастной категории около двадцати к возрасту двадцать с небольшим. В течение нескольких лет Барбара не могла сделать выбора между научной карьерой и журналистикой. Она начала с того, что провела год в Рэдклиф-колледже, потом некоторое время занималась в МТИ. Журналистику она изучала в Бостонском университете, но, только выйдя замуж за Гордона Рейзбека, довела до конца свои занятия уже в университете Дру* недалеко от Мористауна в штате Нью-Джерси, где она в то время жила. В промежутке Барбара довольно много работала в области научной журналистики, выполняя различные поручения Службы науки в Вашингтоне.
* ( Университет в г. Медисоне (штат Нью-Джерси).)
Пегги поступила в Тафтс-колледж, студентом которого был и я. Она избрала своей специальностью биохимию и после окончания колледжа продолжала заниматься в аспирантуре МТИ, потом в Лондоне и в Бостонском университете. Некоторое время Пегги работала в Уорчестерском фонде экспериментальной биологии. Вскоре она вышла замуж и сейчас энергично трудится в одной фармацевтической фирме на севере штата Нью-Джерси.
Оба мои зятя - инженеры и работают в Телефонной лаборатории Белла, занимаясь проблемами, имеющими непосредственное отношение к математике, и работой, связанной с приложениями. Таким образом, в моей собственной семье еще раз подтвердился странный генетический закон передачи математических способностей от тестя к зятю, о котором я уже говорил.
В начале 1950 года я получил приглашение приехать во Францию, чтобы прочесть курс лекций в "Коллеж де Франс".* Инициатором этого приглашения был Мандельбройт. После некоторых раздумий я решил, что не могу потратить целый год на чтение лекций, и отплыл во Францию только в декабре.
* (Один из крупнейших научных институтов Франции.)
Мои французские друзья подыскали гостиницу в Савойе,* где я мог отдохнуть, пока не наступила горячая пора. А горячая пора действительно приближалась, так как мне предстояло принять участие в конгрессе, посвященном быстродействующим счетным машинам и проблемам автоматизации, который должен был состояться в Париже в начале января 1951 года.
* (Область на юго-востоке Франции, граничащая с Италией.)
По окончании конгресса я провел несколько недель в Англии у Холдейнов. Там ко мне присоединились Маргарет и Пегги.
Мы с Маргарет тут же уехали в Париж. На несколько недель нас поместили в здании, принадлежащем Парижской обсерватории, и мы немедленно оказались втянутыми в интеллектуальную и светскую жизнь маленького кружка сотрудников.
Я получал большое удовольствие от преподавания, и в "Коллеж де Франс" ко мне относились как к одному из своих профессоров. В тот день, когда я читал лекции, а таких дней было двадцать, я заходил в маленькую комнатку, обдумывал несколько минут то, что мне предстояло сказать, расписывался в журнале и в сопровождении appariteur'a (университетского служителя) с деревянной ногой шел в лекционный зал. Я читал лекции по-французски, а если мой словарь иссякал, обращался за помощью к аудитории.
В первый же день я встретил на лекции своего старого друга. Это был французский врач, который работал в Национальном институте кардиологии в Мексике и лечил меня, когда я сильно переутомился. Он наблюдал за моим здоровьем все время, пока я жил во Франции, и мы с Маргарет часто с удовольствием проводили вечера у него в доме. С тех пор он несколько раз бывал в Америке, так что у нас была возможность расквитаться с ним за гостеприимство.
Математики в буквальном смысле слова приняли нас в свою семью. Мы часто бывали у милого старого Адамара и его жены; нам казалось, что они оба окончательно лишились признаков возраста, хотя им перевалило уже за восемьдесят. В числе знакомых, которых мы навещали, были также Фреше и Булиган.
Кроме курса в "Коллеж де Франс", я читал ряд других лекций, некоторые из них на инженерные темы, перед группой слушателей из Высшей школы инженеров связи. Кроме того, я прочел лекцию по философии почти что в цитадели экзистенциализма - в холле квартиры Сартра. Посетили мы и салон одного из профессоров философии, где со мной носились, как со знаменитостью, совсем на французский манер.
Я проводил много времени, сплетничая с Фрейманом в задней комнате его лавки или играя в шахматы иногда в "Бар Селект" на бульваре Монпарнас, а иногда в других увеселительных заведениях Парижа. Мы часто ходили в кино и немного лучше познакомились с хорошими парижскими ресторанами и кафе.
За год до поездки во Францию я написал еще одну книгу для широкой публики. Это был популярный отчет о кибернетике с особым упором на социальные проблемы. Я назвал ее "Человеческое использование человеческих существ",* впервые она была опубликована издательством "Хоутон Мифлин", а затем выпущена в дешевом издании в серии книг "Энкор Букс оф Даблди". Я попытался продать ее какому-нибудь парижскому издателю, чтобы она появилась также на французском языке. В конце концов мне удалось договориться с мсье Дюфэзом из издательства "Эдисьён де дё Рив".
* (Полное название книги: "Cybernetics and society. The human use of human beings"; в русском переводе эта книга называется "Кибернетика и общество", Москва, ИЛ, 1958.)
На пасху к нам приехала Пегги, и мы всей семьей отправились в Нанси, где я должен был прочесть лекцию. Лоран Шварц и его друзья отнеслись к нам с такой же сердечностью, как и во все наши предыдущие приезды во Францию. Маргарет говорит по-французски лучше меня, а Пегти тоже оказалась на высоте и вполне могла принимать участие в наших беседах и светских развлечениях.
Весной, когда я кончил курс лекций в Париже, мы с Маргарет уехали в Мадрид. Летом предыдущего года в Кембридже (Массачусетс) состоялся Всемирный математический съезд, в работе которого я тоже принимал участие. На этот раз испанцы были со мной очень любезны, и я получил приглашение прочесть несколько лекций в Мадриде. Я пытался отказаться, говоря, что мои идеи при более близком знакомстве могут им не понравиться, но они решили, что это препятствие несерьезно.
Я принял предложение. Тем временем мой наниматель прочел кое-что из того, что я написал, и нашел, что мои взгляды слишком либеральны, чтобы их можно было с безопасностью излагать в тоталитарном государстве. Хотя я говорю по-испански не хуже, чем по-французски, он потребовал, чтобы я читал лекции на французском языке; сейчас я убежден, что это было сделано только для того, чтобы меня поняло меньшее число людей. Мне предложили говорить только об инженерных задачах и математике, не касаясь никаких политических, философских или биологических проблем.
Мы с Маргарет жили в великолепном отеле, нам оказывали самое широкое гостеприимство, но у нас все время было ощущение, что мы изолированы и что от нас умышленно хотят скрыть то, что происходит в стране. Знание испанского языка и опыт предыдущих путешествий помешали осуществлению этого плана - я часто гулял в соседнем парке и разговаривал с людьми, и мы вместе с Маргарет ездили поездом в Эскориал.* Узнав об этой поездке, наш хозяин понял, что мы ускользнули от его надзора, и страшно рассердился, но когда один испанский знакомый пригласил нас совершить вместе с ним автомобильную экскурсию в Севилью, он рассердился еще сильнее.
* (Ансамбль зданий в 27 км от Мадрида, воздвигнутый между 1563 и 1584 гг. в честь святого Лаврентия.)
Мы были рады покинуть Испанию и вернуться к свободной жизни во Франции. Часть каникул мы провели в очаровательном баскском городке Сен-Жан-де-Люз. Там я всерьез занялся работой, которую начал еще в Америке и продолжал в Париже и Мадриде, - писал предыдущий том автобиографии, опубликованный под заглавием "Бывший вундеркинд". Мне приходилось заново переживать свое суровое детство вундеркинда. Работа требовала громадного внутреннего напряжения, но в то же время самый процесс создания книги был наилучшей психотерапией, которую только можно было придумать по этому поводу.
Возвращение домой натолкнулось на какие-то трудности, и мы уехали в Париж, чтобы выяснить, в чем дело, и заодно разрешить некоторые другие важные вопросы. В Париже мы остановились в очаровательном отеле на берегу Сены около церкви Сен-Жермен. Потом мы вернулись в Савойю, чтобы отдохнуть перед возвращением в Штаты.
Один из врачей в савойском городке, где мы жили, оказался отцом нашего друга - врача из Парижа. К концу пребывания в Савойе переутомление, вызванное чтением лекций и работой над книгой, заставило меня слечь с мучительной головной болью; мне даже пришлось провести некоторое время в Женевской кантональной больнице. Тем временем мой друг из Парижа написал своему отцу, порекомендовав соответствующий курс лечения, и благодаря его помощи я скоро поправился. Несмотря на это, путешествие в Геную, где мы должны были сесть на пароход, обратилось в сплошную муку, и когда мы добрались до порта, меня пришлось поручить заботам пароходного врача. Врач продолжил начатый курс лечения, и к моменту возвращения домой я был вполне здоров, хотя чувствовал смертельную усталость.
Мы с Маргарет почти сразу же уехали в Мексику на торжества, посвященные четырехсотлетию университета. По этому случаю университет раздавал почетные звания, и я тоже получил одно из них. Мексиканские празднества доставляют большое удовольствие, но они насыщены до предела, и после двух недель различных церемоний я был совершенно измотан. Тем не менее до самого возвращения в США в январе 1952 года я продолжал работать с Артуро.
Еще до поездки в Мексику индийские математики Начали переговоры о том, чтобы я приехал в Индию прочесть курс лекций. В рождественские каникулы 1953 года я почувствовал, наконец, что могу принять это приглашение.
|
ПОИСК:
|
© MATHEMLIB.RU, 2001-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'