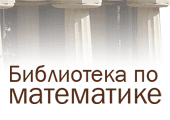
Версальское представление
- Чертог сиял! Гремели хором певцы при звуках флейт и лир, - упоенно декламирует Фило, любуясь освещенным дворцом, за окнами которого снуют фигуры причудливо разодетых гостей.
- Не увлекайтесь, мсье, - остерегает его бес. - Поэты ревнивы. Уместно ли, собираясь на спектакль Мольера, цитировать Пушкина?
Тот назидательно поднимает палец.
- Пушкина, к вашему сведению, уместно цитировать всегда! Но мне что-то не нравится эта суета за окнами. Что она означает? Может статься, антракт?
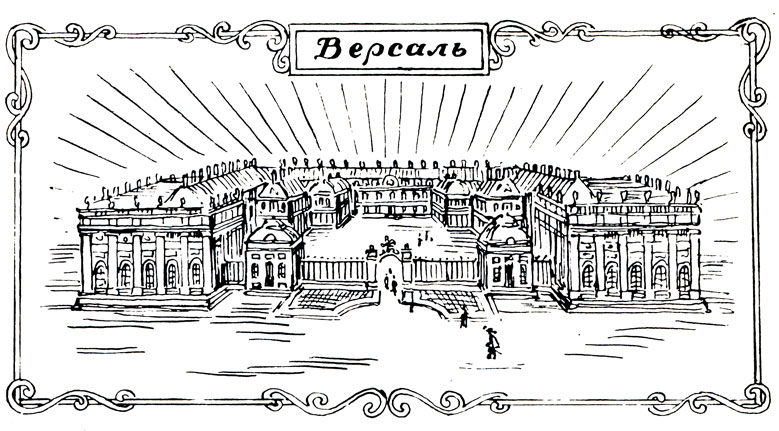
Версальское представление
Асмодей делает постное лицо.
- Если бы, мсье!
- Как?! Вы хотите сказать, что представление уже окончилось? Уж эта мне шляпа! Знал бы я, что из-за нее потеряю, никогда не стал бы ее разыскивать...
Но черт полагает, что все к лучшему. Опоздали на одно представление - посмотрят другое, не менее интересное. Кстати, оно уже начинается.
В ту же секунду, словно покоряясь какому-то неслышному приказу, центральные двери дворца распахиваются настежь, пространство перед ним запруживает нарядная костюмированная толпа, и парк наполняется многоголосым растревоженным гулом.
- Неслыханно! - раздается повсюду. - Этот Мольер окончательно обнаглел... Его величество слишком избаловал его своей благосклонностью...
- Подумать только! - захлебывается тонкий визгливый голос, который принадлежит человеку с непомерно толстыми икрами (за спиной у него болтаются золоченые крылышки и лук, из чего следует, что он изображает амура). - Вывести на сцену духовное лицо в качестве проходимца и обманщика! На это способен разве что безумец.
- Безумцам место в сумасшедшем доме, - внушительно басит надменная усатая дама, чей мощный торс чудом втиснут в узкий корсаж балетной пастушки.
- Ваша правда, мадам, - галантно изгибается "амур", выставив толстоикрую ногу в белом чулке. - И будь на то моя воля, уж я бы сумел привести ваш приговор в исполнение!
На дворцовом крыльце появляется мажордом в алой, затканной золотом ливрее.
- Карету ее величества! - провозглашает он, стукнув высоким жезлом о мраморную площадку.
Слова его производят сильное впечатление: гул переходит в почтительный, боязливый шелест.
- Слышали? Ее величество покидает Версаль!
- Королева-мать покидает Версаль...
- Какой скандал!
- Праздник испорчен! - неожиданно громко басит усатая "пастушка".
Замечание ее, и в самом деле смахивающее на судебный приговор, окончательно пресекает какие бы то ни было высказывания. И в напряженной тишине, подобно оперной примадонне, которая готовится спеть свою коронную арию, на крыльце возникает дама в черном - царственная, разгневанная, с тяжелыми припухшими веками над некогда прекрасными глазами.
Мате дергает Фило за рукав.
- Это кто же такая будет? - шепчет он ему в самое ухо.
- Судя по всему, Анна Австрийская, дражайшая родительница нашего ненаглядного Луи, - так же шепотом отвечает тот.
- Что вы говорите? - наивно изумляется Мате.- Так это из-за нее д'Артаньян ездил в Англию за бриллиантовыми подвесками? Никогда бы не подумал. И что только нашел в ней Букингем?
- Не забывайте, - вмешивается Асмодей, - что романтическая история с подвесками произошла достаточно давно, когда прекрасная Анна была не так толста и не так устрашающе набожна. Кроме того, сильно подозреваю, что она (история, а не Анна!) - не более чем выдумка мсье Дюма-отца, который, как известно, весьма бесцеремонно обращался с историческими фактами.
- Ну, с подвесками, может, никакой истории и не было, - соглашается Фило. - Зато была другая. Не успел закрыть глаза этот слабохарактерный Людовик Тринадцатый, как у власти тотчас оказались мамаша малолетнего Луи Каторза, регентша Анна Австрийская и ее тайный супруг, кардинал Мазарини*.
* (Мазарини Джулио (1602-1661) - итальянский дворянин, выученик иезуитов. Преемник Ришелье.)
- Это, случайно, не он? - Мате косится на важного сановника, помогающего Анне спускаться со ступенек.
- Фи, фи и в третий раз фи, - балагурит Асмодей. - Мазарини в компании таких же прохвостов, как он сам, вот уже три года жарится у нас в преисподней. Же ву засюр... Уверяю вас! А тот, о ком вы спрашиваете, - председатель парижского парламента Ламуаньон. Он же по совместительству один из главарей общества Святых даров, которому, кстати сказать, деятельно покровительствует королева-матушка.
- Что за общество? - интересуется Мате.
- В сущности, тайная полиция нравов, - поясняет Фило. - Разветвленная негласная организация, которая только и смотрит: а не завелось ли где вольнодумства и ереси?
- Вот оно что! А негласная почему? В монархическом государстве обществу с такими "благородными" целями вроде бы прятаться незачем.
Фило тонко улыбается. Все не так просто! В том-то и дело, что подлинная цель этого общества - не столько искоренение еретиков, сколько борьба за политическое главенство в стране. Аристократы и церковники, из которых оно состоит, вовсе не жаждут, чтобы власть целиком сосредоточилась в руках короля. Напротив, все их усилия направлены на то, чтобы любой ценой укрепить свою собственную, не дать вышибить себя из седла, ни в коем случае не лишиться влияния...
- Хватит вам плевать друг другу в уши, мсье, - не выдерживает Асмодей. - Этак вы ничего не увидите!
И он, как всегда, прав: то, что происходит на крыльце, и в самом деле заслуживает внимания.
- Ваше величество, успокойтесь, - почтительно уговаривает Ламуаньон свою высочайшую покровительницу. - Вам вредно волноваться, ваше величество...
- Я не могу не волноваться, когда попраны самые мои священные чувства, - произносит она скорее напыщенно, чем величественно, и дряблый голос ее то и дело срывается. - И я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, что этого нечестивца постигла достойная кара.
- Надеюсь, ваше величество, вам не придется дожидаться этого слишком долго.
Тяжелые припухшие веки испытующе вскидываются.
- Вы так думаете? Смотрите же, Ламуаньон, я вам верю.
Тот сгибается перед ней чуть не до земли.
- Да поможет вам бог! - роняет она, делая святые глаза.
Засим царственные телеса с помощью двух ливрейных лакеев втискиваются в лакированную, стеганную изнутри белым атласом бомбоньерку на колесах, и шестерик белейших лошадей уносит их прочь из Версаля.
Фило вопросительно смотрит на Асмодея. И это всё? На том и заканчивается обещанное представление?
- Всего лишь первая картина, мсье. А вот и вторая, где участвуют знакомый уже вам Ламуаньон и архиепископ Парижский, Перефикс.
Он увлекает филоматиков в уединенную аллею, и тут, укрывшись за цветущим полукружием тщательно подстриженного кустарника, друзья становятся свидетелями другого, более откровенного разговора.
- Нет никакого сомнения, монсеньер: "Тартюф" - камень в наш огород, - говорит Ламуаньон с преувеличенным пафосом. - Мошенник в сутане, втершийся в доверие к хозяину дома, - разве это не намек на нашего агента, из тех, что мы засылаем в частные дома, чтобы разведать, чем дышат их обитатели? А святые истины, мало того - цитаты из священного писания в устах шпиона, доносчика, соблазнителя чужой жены, - что это, если не гнусный пасквиль на добродетель и благочестие, о которых мы с вами радеем? Нет, тут и говорить нечего: добиться запрещения богомерзкого детища Мольера - наш долг!
- О, о, какой пыл! - желчно иронизирует Перефикс. - Ламуаньон, да в вас погибает великий актер! Но добиться запрещения после того, как премьера состоялась... Не кажется ли вам, что это значит размахивать кулаками после драки? Куда проще было не допустить постановки вообще. И, помнится, именно вас обязали к тому на апрельском заседании у маркиза де Лаваля.
- Легко сказать - не допустить, - оправдывается Ламуаньон. - Его величество так дорожит свободой своих мнений... Просить его о запрещении комедии, которой он даже не читал... Согласитесь, монсеньер, он мог усмотреть в этом крамольное желание навязать ему готовое суждение со стороны, и тогда - провал! Полный провал с самого начала!
- Нет надобности гадать, что было бы тогда, - нетерпеливо перебивает Перефикс. - Подумаем лучше, что предпринять в дальнейшем. Мне кажется, есть смысл прибегнуть к перу аббата Рулле. Сей почтенный муж не раз уже оказывал нам услуги. Так вот, пусть напишет от своего имени воззвание к королю с красноречивым описанием неслыханных обид и оскорблений, нанесенных Мольером всем истинным приверженцам католической веры, и потребует сурового возмездия богохульнику и клеветнику.
- Прекрасная идея, монсеньер. Прекрасная! Но, - Ламуаньон воровато оглядывается и понижает голос, - осмелюсь все же заметить, что применение глагола "требовать" в послании к его величеству крайне нежелательно. Это безобидное словечко действует на него, как красная тряпка на быка.
Перефикс презрительно морщит полные губы над жирным, со сдобной ямочкой подбородком.
- Не слишком ли вы боязливы для рыцаря господня, Ламуаньон?
- Но, монсеньер, вы же знаете, - чуть ли не шепотом увещает тот, - его величество столь же не терпит советов, сколь и малейшего соперничества. Не исключено, что мне, как четыре года назад, придется снова подписать парламентский указ, подтверждающий запрещение нашей организации.
- Господин Ламуаньон запрещает господина Ламуаньона, - едко посмеивается Перефикс. - Забавно!
Тот натянуто улыбается. Разумеется, по существу ничего не изменится... Он это только к тому, что деятельность их братства для короля не тайна, и лишь покровительство королевы-матери удерживает его величество...
Но тут невдалеке слышатся голоса, от которых Ламуаньон втягивает голову в плечи и обрывает свою речь на полуслове.
- По-моему, нам лучше разойтись, монсеньер. Сюда идут.
Укромная скамья в излучине живой благоухающей подковы пустеет, но лишь затем, чтобы приютить другой дуэт. На сей раз, по образному выражению Асмодея, в сети к филоматикам заплывает самая крупная версальская рыба: сам Людовик и его прославленный полководец, принц Конде.
- Что скажете, Конде? - брюзжит король, недовольно оттопырив нижнюю, и так уж от природы обвислую губу. - Покинуть Версаль из-за какой-то пустячной комедии! На склоне лет моя дражайшая матушка превратилась в настоящую ханжу. Только и делает, что осуждает чужие грехи и замаливает собственные... Заметили вы ее нынешний наряд? Все закрыто наглухо! Ни дать ни взять, крепость перед осадой.
Породистые ноздри Конде смешливо раздуваются. И все же он не разрешает себе ни малейшей фамильярности по отношению к особе, о которой его так доверительно спрашивают, хотя на то ему, казалось бы, дает право принадлежность к королевскому роду. Видимо, Луи де Бурбону, принцу Конде, хорошо известны взгляды короля на сей счет.
- Когда же и замаливать грехи, если не в старости, сир, - говорит он с почтительным равнодушием.
- Положим, - усмехается Людовик. - Но мне, к счастью, до старости далеко. Покуда моя забота - обзавестись прегрешениями. Иначе что же я буду замаливать потом?
На сей раз Конде разрешает себе рассмеяться (вполне, впрочем, искренне), хотя и не может не заметить своему царственному сородичу, что архиепископ Перефикс, вне всякого сомнения, придерживается иных мыслей.
Нижняя губа Людовика оттопыривается еще больше. Вот как! Ему осмелились напомнить о человеке, который то и дело злоупотребляет правами своего сана, пытаясь влиять на него, неограниченного властителя французской державы!
- Никаким перефиксам не дозволено перевоспитывать короля Франции! - отчеканивает он с холодным бешенством.
- Безусловно, сир, - спокойно соглашается Конде, - но как запретишь им перевоспитывать прочих смертных?
Людовик искоса изучает Конде царственно-неподвижным взором. Прочие смертные - это, конечно, Мольер! Но в чем его вина?
- На мой взгляд, ни в чем, сир, - все так же невозмутимо ответствует Конде, - но Перефикс...
- К черту Перефикса! Нам случалось видывать пьесы похлеще. Вот хоть фарс, разыгранный недавно итальянцами. Как бишь он называется...
- "Скарамуш-отшельник", сир.
- Да, да, "Скарамуш-отшельник". Там тоже выведен довольно-таки паскудный монашек. Между тем никто и не подумал им возмущаться. Отчего же Перефикс и компания ополчились именно на "Тартюфа"? Не потому ли, что его сочинителю покровительствую я?
- Скорей всего, потому, сир, что автор "Скарамуша" смеется над небом и религией, до которых этим господам нет никакого дела. Мольер же высмеял их самих.
- О! - Король поворачивает голову и снова исследует немигающим оком орлиный профиль своего сорокатрехлетнего полководца.- В таком случае, я ему не завидую, - цедит он неожиданно вяло, будто сразу утратил всякий интерес к этой истории.
И Конде, великий Конде, как его называют, имевший-таки, видимо, намерение замолвить словечко за Мольера, понимает, что дипломатический бой проигран. Да и то сказать, какой из него дипломат? Ну зачем было говорить, что причиной скандала не король и не его покровительство Мольеру? Ведь если Перефиксу нет дела до религии, то Людовику уж наверняка нет дела ни до кого и ни до чего, кроме себя самого и своего собственного достоинства. И коль скоро королевское достоинство не задето, так и на королевское заступничество рассчитывать не приходится.
Точности ради следует заметить, что размышления эти принадлежат уже не Конде, а Фило, который до того взволнован постигшей принца неудачей, что Асмодей из благоразумия объявляет антракт и увлекает филоматиков подальше от опасной скамейки.
|
ПОИСК:
|
© MATHEMLIB.RU, 2001-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'