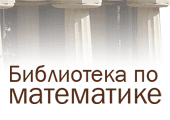
4. Европейский период моей жизни. Макс Борн и квантовая теория
Только через два года после Страсбургского конгресса мне удалось возобновить свои поездки за границу. Мое горячее стремление попасть в Европу частично было вызвано желанием еще полнее приобщиться к европейской математической мысли, благо я уже познал эту радость, а частично - особыми обстоятельствами . нашей семейной жизни.
Вскоре после войны мои" родители купили в Гротоне (Массачусетс) ферму с жилым домом и яблоневым садом. Они собирались перебраться туда после того, как отец выйдет в отставку, а пока мы все съезжались в Гротон на каникулы. К сожалению, чтобы поддерживать на ферме порядок, нужны были усилия всех членов семьи. Мы же, младшее поколение, были слитком обременены заботами. Нам приходилось тяжко трудиться, чтобы пробить себе дорогу в жизни, поэтому в свободное время мы хотели просто отдохнуть, чтобы как-то набраться сил, и вовсе по стремились тратить досуг, заработанный в поте лица своего, на выращивание овощей и расчистку лесного участка.
Моя сестра Констанс преподавала математику в Смит-колледже*. Берта изучала химию в Массачусетском технологическом институте. Энергичная, уверенная в себе Констанс стала уже настоящей маленькой женщиной. Родители считали ее главной опорой семьи и единственной из нас, обладающей тем, что французы называют savoir faire**. В тех вопросах, в которых я все больше и больше расходился с матерью, она, наоборот, все больше и больше с ней сближалась.
* (Женский колледж в г. Нортемптене (штат Массачусетс). )
** (Здесь: умение жить (франц:).)
Самым независимым членом нашей семьи была, наверное, Берта. Семилетняя разница в нашем возрасте избавила ее от тягот воспитательной системы отца. Она не только не подвергалась такому давлению, как я, но не знала даже более мягких форм воздействия, которые применялись к Констанс. Когда Берта была школьницей, вся семья занималась главным образом воспитанием моего младшего брата Фрица, так что и тут она оказалась предоставленной самой себе в гораздо большей степени, чем мы. Это привело к тому, что она относилась к делам семьи гораздо более трезво, чем Констанс или я, по крайней мере в то время, когда я еще только начинал свою самостоятельную жизнь.
Мне очень хотелось поделиться с сестрами радостями, которые я получал от своих путешествий в Европу, а им, конечно, хотелось к этим радостям приобщиться. Я не стану перечислять здесь в хронологическом порядке все поездки, совершенные мною в одиночестве или вместе с ними, и скажу только, что лето 1922, 1924 и 1925 годов я провел за границей, навещая друзей нашей семьи и своих коллег. За время этих поездок я все чаще и чаще виделся с Леви и завязал новые важные для меня знакомства не только в Англии и во Франции, но и в Германии. Летом 1922 года я оказался в Германии как раз в тот момент, когда там начиналась инфляция, и видел собственными глазами, какое это страшное бедствие.
Все это время я продолжал заниматься теорией потенциала. Моя работа протекала в двух направлениях. Прежде всего, я пришел к новому пониманию связи между значениями электромагнитного потенциала внутри области и его значениями на границе. Как я уже указывал, первоначально предполагалось, что значения электромагнитного потенциала внутри области должны непрерывно переходить в значения на границе и однозначно определяться этими последними. Мне, однако, удалось обнаружить, что в теории потенциала могут быть использованы некоторые понятия, родственные упоминавшемуся раньше обобщенному интегрированию, и что при этом приходится считать, что потенциал внутри области должен определяться значениями потенциалов в окрестности границы и что непрерывность при подходе к границе вполне может и нарушаться. Руководствуясь примером теории обобщенного интегрирования Даниеля, о которой я рассказывал выше, я пришел затем к существенному обобщению ряда понятий теории потенциала, начиная с самых основных понятий заряда и емкости. Основным моим нововведением было то, что зависимость значения потенциала во внутренней точке от граничных значений я рассматривал как некоторое обобщенное интегрирование, а не как простейшую непрерывную связь, при которой значения на границе могут быть получены из внутренних значений с помощью предельного перехода. Такой подход, по существу, означал, что обычная постановка задачи с граничными условиями заменялась обратной постановкой. Как и во многих других математических вопросах, такое обращение точки зрения внесло свежую струю в область исследований, долгое время казавшуюся совершенно мертвой.
Мой старший друг и наставник профессор X. Б. Филлипс из МТИ еще раньше рассматривал величины, аналогичные потенциалу, заданные на квадратной сетке (типа сетки решета) и на некоторых трехмерных структурах, родственных такой сетке. С помощью новых общих понятий теории потенциала мне удалось показать, что его результаты являются важным шагом в построении универсальной теории потенциалов любого рода.
Я полагал, что сумел пополнить арсенал обычных средств теории потенциала значительным числом новых, хорошо попадающих в цель соображений. Применив их к старой проблеме Зарембы, полное решение которой оставалось неизвестным, я выяснил, что не ошибся в своих ожиданиях.
Примерно в это же время на страницах "Докладов" ("Gomptes rendus") Французской академии наук начали появляться многочисленные статьи по теории потенциала, принадлежащие Лебегу и его молодому ученику Булигану. В науке часто бывает, что глубина и большая четкость появляющихся новых статей, не содержащих еще каких-либо особенно важных конкретных результатов, свидетельствуют о том, что в ближайшее время в этой области следует ожидать значительного продвижения. Именно так обстояло дело с работами Лебега и Булигана. Мне было совершенно ясно, что если я немедленно не приложу всех своих сил, то позже это уже может оказаться невозможным из-за того, что весь круг вопросов, связанных с теорией потенциала, будет окончательно вычеркнут из числа тех, в которых еще остаются какие-то проблемы, не разработанные до конца. Поэтому я удвоил усилия, стараясь как можно лучше использовать разработанный мной новый математический аппарат, и вскоре с радостью обнаружил, что получил результаты, которые в то время естественно было считать окончательным решением задачи.
Я хорошо сознавал, что должен торопиться, и немедля обратился к студенту Мануэлю Сандовалю Байарте, мексиканцу по национальности, значительно лучше меня изъяснявшемуся по-французски, с просьбой помочь изложить мои идеи на сносном французском языке. В результате родилась небольшая заметка, которую я по почте отправил Лебегу для опубликования в "Докладах" Академии.
То, что произошло потом, представляет собой пример совпадения, гораздо более обычного в истории открытий и изобретений, чем это может показаться с первого взгляда. Пока мое письмо пересекало океан, Булиган получил некоторые очень важные результаты, которые он не успел еще окончательно отшлифовать. Эти результаты он показал Лебегу и по его совету представил их Академии в запечатанном конверте, в соответствии с обычаем, освященным вековой академической традицией. Мое письмо пришло в тот самый день, когда был вскрыт конверт Булигана. Обе заметки появились рядом в одном и том же номере "Докладов" вместе с коротким предисловием Лебега, относящимся к ним обеим. Хотя результаты этих заметок были изложены в разных терминах, их основная идея полностью совпадала. Впрочем, с точки зрения логики заметка Булигана представлялась менее совершенной, так как она содержала лишь предварительное сообщение о работе, далекой от полного завершения.
Итак, в моем соревновании с Булиганом результат оказался еще более ничейным, чем в предыдущем эпизоде, связанном с двойным открытием банаховых пространств. Знаменательно, что и на этот раз так же как в случае с Банахом, соревнование закончилось в высшей степени дружелюбно. Булиган с полной готовностью признал большую законченность моей работы, и мы договорились встретиться, как только я попаду во Францию.
Другой круг вопросов, которым я занимался примерно в то же время, но уже без постоянной угрозы быть обойденным, также привел меня к установлению новых дружеских контактов. Дело в том, что мое внимание привлекли исследования датского математика Гаральда Бора, посвященные тому, что он назвал "почти периодическими функциями". Эти функции изображаются кривыми, которые, хотя и не повторяются совершенно точно подобно узорам на обоях, но в некотором смысле близки к этому. Открытие таких функций представляло собой значительное обобщение классического гармонического анализа. Как уже говорилось выше, сам я тоже работал над обобщением гармонического анализа, пытаясь оправдать с его помощью формальные правила исчисления Хевисайда. Познакомившись с результатами Бора, я, естественно, захотел посмотреть, что могут дать мои идеи в применении к новой области. И опять мне удалось добиться успеха, построив теорию, охватывающую не только спектры, которые, подобно спектрам излучения паров химических элементов, сосредоточены в отдельных линиях, но и спектры совсем другого типа, в которых энергия непрерывно распределена по целому интервалу частот. Что же касается теории Бора, то она относилась только к случаю линейчатых спектров. Оказалось, что с помощью некоторых рассуждений, которыми я уже и раньше пользовался в своих исследованиях по обобщенному гармоническому анализу, можно было получить все основные результаты Бора и ряд значительно более широких новых результатов, касающихся также случая непрерывного спектра.
Идеи, использовавшиеся в этих исследованиях, очень тесно примыкали к тем, которые я уже применял при изучении брауновского движения. В частности, мне снова пригодились непрерывные кривые, являющиеся столь извилистыми, что ни в какой их точке нельзя сказать, какое же они имеют направление. При обсуждении вопроса о брауновском движении я отмечал, что ранее такие кривые были в науке на положении пасынков: они рассматривались как совершенно неестественные патологические объекты, выдуманные математиками от чрезмерной абстрактности и не имеющие никакого отношения к реальному физическому миру. Мне же удалось построить физическую по существу теорию, в которой такие кривые играли основную роль.
Совсем неожиданно у меня завязались дружеские отношения еще с одним европейским математиком, на сей раз, правда, не на основе общих научных интересов, а благодаря семейным связям. Мне не раз попадались на глаза статьи Леона Лихтенштейна, немецкого ученого, бывшего редактором самого солидного реферативного математического журнала того времени и работавшего в области гидродинамики. Я знал, что у моего отца был двоюродный брат Леон, который, как и он, когда-то учился в Берлинском технологическом институте. Особого интереса к инженерному делу он, однако, не проявлял и в конце концов оставил технику, чтобы заняться научно-исследовательской работой в области прикладной математики. Отец давно потерял его из виду и не знал, где он работает и удалось ли ему чего-нибудь достигнуть на новом поприще.
Однажды мы получили письмо от моей нью-йоркской тетушки, в котором сообщалось, что Леон добился в математике гораздо больших успехов, чем можно было ожидать. Она же нам написала, что его фамилия Лихтенштейн. Тогда-то мне и пришло в голову, что двоюродный брат отца Леон и известный математик Лихтенштейн, очевидно, одно и то же лицо. Я написал Лихтенштейну и прямо спросил его, не доводится ли он нам родственником. В ответ пришло дружественное письмо, подтвердившее мою догадку. Лихтенштейн знал о моем существовании и. о моих работах и приглашал навестить его, когда я в следующий раз буду в Европе. Он по-прежнему жил в Берлине, хотя преподавал в Лейпцигском университете, где, как я потом узнал, занимал должность декана факультета наук.
Установив с помощью писем какие-то отношения с Булиганом и Лихтенштейном, я летом вместе с Бертой приехал в Европу. Прежде всего я отправился в Пуатье к Булигану. Он встречал меня на станции, держа в руках экземпляр одной из моих статей, чтобы я мог его узнать. Булиган оказался простым и славным молодым бретонцем. Он пригласил меня погостить у них дома. В Пуатье есть на что посмотреть. Это очаровательный город, очень романтичный, со множеством интересных архитектурных памятников. Булиган познакомил меня с одним из своих друзей, преподавателем лицея и знатоком местных достопримечательностей, самые интересные из которых они вдвоем мне показали.
Потом я поехал в Германию к Лихтенштейну. Мы никогда не видели друг друга даже на фотографиях, поэтому нам было не так-то легко встретиться. Лихтенштейн, так же как Булиган, ждал нас на вокзале и в качестве опознавательного знака держал в руках лист бумаги, на котором в мою честь была написана основная формула теории потенциала.
Лысый и с бородкой, чертами лица он мало походил на отца, но, так же как отец, был небольшого роста и отличался недюжинной энергией, усиленной жестикуляцией и твердыми принципами. Лихтенштейн во многом был настроен резко антиамерикански, но меня он встретил очень тепло. Правда, несмотря на это, Берте и миссис Лихтенштейн (главой дома в семье моего дяди была явно она) пришлось потратить немало усилий, чтобы помешать нашей беседе превратиться в открытую ссору.
Знакомство с Лихтенштейнами заставило меня столкнуться с одной маленькой специфически немецкой проблемой. С первой же встречи Леон попросил меня говорить ему "du"*; миссис Лихтенштейн относилась ко мне не менее сердечно, чем ее муж, но такого желания все-таки не выразила. При этих условиях я, естественно, не чувствовал себя вправе вести себя с ней так же фамильярно, как со своим родственником, и в разговорах пользовался общепринятой формой обращения "Sie"**.
* ( Ты (нем.).)
** (Вы (нем.). В английском языке фактически нет обращения па "ты", поэтому вопрос о выборе формы обращения представляется Винеру "специфически немецкой проблемой".)
В 1924 году, вспомнив о прежних временах, я побывал в Геттингене; оказалось, что мои новые идеи обратили на себя внимание тамошних математиков. Поэтому в 1925 году, совершив вместе с Александром из Принстонского университета небольшую экскурсию в горы, я на обратном пути снова приехал в Геттинген. На этот раз я убедился, что работа об обобщенном гармоническом анализе по-настоящему заинтересовала моих геттингенских коллег.
Во главе геттингенских математиков в то время стоял Рихард Курант, маленький, трудолюбивый, очень живой и властолюбивый человек. Он посоветовал мне провести год в Геттингене, чтобы заняться некоторыми исследованиями вместе с геттингенскими математиками. Средства для этого можно было попытаться получить из каких-нибудь американских источников. Как раз в это время в Нью-Йорке организовался фонд имени Джона Симона Гуггенхейма, и Курант считал, что я вполне могу туда обратиться. Он уверял, что мое пребывание в Геттингене будет не только полезно, но и приятно, поскольку геттингенские математики готовы оказывать мне всяческую помощь: позаботиться, например, об опубликовании моих статей и даже проследить за тем, чтобы они были написаны пристойным немецким языком.
По совету Куранта я отправился засвидетельствовать свое уважение Феликсу Клейну, который делил с Гильбертом славу самого выдающегося геттингенского математика. Клейн уже очень ослабел, и все понимали, что дни его сочтены. Я все-таки с радостью воспользовался представившимся случаем, чтобы познакомиться еще с одним представителем славного прошлого математической науки.
Мой визит начался с грубого промаха. Увидев перед собой пожилую экономку, я спросил на самом изысканном немецком языке, на который я только был способен: "Ist der Herr Professor zu Hause?" -"Der Herr Geheimrat ist zn Hause"*, -ответила она, всем своим видом показывая, что я совершил бестактность, назвав тайного советника профессором. Титул "Geheimrat" означает для немецкого ученого приблизительно то же самое, что право именоваться "сэром" для англичанина; должен, однако, сказать, что в Англии мне не приходилось замечать, чтобы кто-либо придавал дворянскому званию такое значение, какое в Германии всегда придается титулу тайного советника.
* ("Господин профессор дома?" - "Господин тайный советник дома".)
Я поднялся наверх и нашел Феликса Клейна в его кабинете - просторной комнате, где было много воздуха и света; вдоль стен стояли книжные шкафы, посередине - большой стол, на котором, разумеется в страшном беспорядке, лежали книги и раскрытые журналы.
Великий математик сидел в кресле с пледом на коленях. У него были тонкие изящные черты лица, как будто вырезанные рукой мастера, и борода. Когда я на него смотрел, мне казалось, что я вижу над его головой венец мудреца, а, когда он произносил имя какого-нибудь замечательного математика прошлого, отвлеченное понятие "автор таких-то и таких-то работ" точно по мановению волшебной палочки превращалось в живое человеческое существо. Над самим Клейном время, казалось, больше не было властно - вокруг него все дышало вечностью. Я слушал его с величайшим благоговением и по прошествии нескольких минут заметил, что уже прошу позволения удалиться, как будто я присутствовал на аудиенции при дворе.
Сообщение, которое я сделал о своей работе по обобщенному гармоническому анализу, нашло в Геттингене живой отклик; Гильберт, в частности, проявил к нему большой интерес. Но тогда я совершенно не подозревал, что эта работа имеет непосредственное отношение к тем физическим идеям, которые через очень короткое время бурно расцвели в Геттингене и породили замечательную новую дисциплину, известную теперь под названием квантовая механика*.
* (В этой главе мне приходится объяснять смысл некоторых довольно сложных проблем, не прибегая к помощи научной терминологии. Читателю, не интересующемуся подробным описанием моих работ этого времени, лучше пропустить несколько абзацев, в которых затрагиваются специальные вопросы. (Прим. автора.)
Та часть математической физики, которая называется квантовой механикой, выросла из выполненной в 1900 году работы Макса Планка о равновесном излучении в полости. Попросту говоря, предметом первой работы по квантовой теории было излучение света внутри горячей печи, в которой свет находится в равновесии с раскаленными стенками так, что при изменении температуры стенок меняется и характер свечения печи. Это изменение весьма заметно и известно всем нам, так как оно объясняет разницу между куском металла, раскаленным докрасна, и куском металла, раскаленным добела. Дело в том, что спектр света, излучаемого металлом, нагретым до красного каления, обрывается где-то в области красных или желтых световых волн, в то время как спектр света, излучаемого металлом, доведенным до белого каления, содержит все цвета из видимой части спектра и простирается далеко в ультрафиолетовую область.
Самая суть трудности объяснения наблюдаемой связи между излучаемым свечением и температурой излучающего тела, которую Планк разрешил при помощи крайне смелой новой гипотезы, заключалась в том, что традиционное представление о свете как о непрерывном явлении оказалось несостоятельным. Гипотеза Планка как раз и предполагала, что свет, так же как материя, имеет зернистую, а не непрерывную структуру.
До появления этой гипотезы механизм влияния температуры стенок печи на цвет излучаемого этими стенками света представлялся совершенно непостижимым. Планк впервые смог объяснить сущность этого весьма легко наблюдаемого явления. Однако высказанная им гипотеза совсем не так безобидна. Она связана с некоторыми идеями математики конца XVII века, и даже не только математики, а вообще всего направления человеческой мысли этого времени. В ту отдаленную эпоху между атомистами, считавшими, что любое вещество состоит из отдельных частиц, и сторонниками идеи непрерывности материи разгорелась ожесточенная идейная битва. Исход сражения имел чрезвычайно важное философское значение, поэтому противники не жалели сил. И все-таки не отвлеченные рассуждения, а конкретное техническое нововведение придало этому спору особую остроту. Этим нововведением явился микроскоп, изобретенный голландцем Левенгуком, которому удалось с помощью своего прибора подсмотреть, например, кипучую жизнь многочисленных обитателей капли стоячей воды.
Изобретение нового прибора всегда порождает целый ряд новых представлений. До Левенгука изучение живых организмов ограничивалось тем, что можно было увидеть невооруженным глазом или, в лучшем случае, с помощью примитивной лупы. Ученые, стоявшие на позициях Демокрита и считавшие, что материя состоит из мельчайших частичек, или атомов, не могли похвалиться никакими особенными успехами - до изобретения микроскопа предметы меньше, скажем, зернышка песка были уже за пределами их досягаемости.
Когда же появилась возможность рассмотреть через микроскоп каплю обыкновенной прудовой воды, создалось впечатление, что в ней кипит не менее напряженная жизнь, чем на улицах большого города. Новые горизонты, открывшиеся перед человеческим глазом, дали новую пищу воображению; мысль ученых устремилась к разрешению проблем мельчайшего строения вещества и к философскому осмыслению самого процесса увеличения, происходящего в микроскопе. В какой-то степени со всеми этими событиями связана, очевидно, и знаменитая свифтовская шутка:
So, naturalists observe, a flea Hath smaller fleas that on him prey; And these have smaller still to bite'em; And so proceed ad infinitum. (Итак, ученые видят: блоха, На ней сидят блошки поменьше и сосут ее кровь; На меньших блошках сидят еще меньшие и кусают их. И так до бесконечности.)
Эта литературная безделка представляет гораздо больший интерес, чем сейчас может показаться.
Среди многочисленных объектов, которые Левенгук рассматривал в микроскоп, были также сперматозоиды человека и животных, причем Левенгук совершенно разумно предположил, что они играют какую-то роль в оплодотворении. Рассматривая сперматозоид с помощью весьма несовершенного микроскопа Левенгука и его последователей, легко можно было предположить, что он содержит в свернутом виде крошечный зародыш живого существа. Отсюда возникла на первый взгляд вполне правдоподобная теория, согласно которой процесс оплодотворения состоял во внедрении сперматозоида в матку, где он начинал увеличиваться в объеме до тех пор, пока содержащийся в нем зародыш не превращался в обычный известный врачам утробный плод. Представление о том, что сперматозоид сам по себе является предшествующей стадией зародыша, навело биологов на целый ряд интересных мыслей.
Если рассматривать сперматозоид как первую стадию утробного плода, естественно предположить, что он представляет собой крохотное человеческое существо со всеми присущими человеку органами, отличающимися лишь уменьшенными размерами и искаженными формами. А в таком случае он, очевидно, содержит также и сперматозоиды, только гораздо меньшего размера, чем те, которые уже известны. Эти сперматозоиды должны в свою очередь содержать еще более мелкие сперматозоиды и так ad infinitum*, т. е. дело как будто обстояло точь-в-точь, как со свифтовской блохой, на которой сидели блохи поменьше с еще и еще меньшими блохами, уже невидимыми с помощью существовавших тогда микроскопов. Отсюда сам собой напрашивался вывод, что будущее человеческой расы заранее предопределено уже существующими человеческими особями.
* (До бесконечности (лат.). )
Такая предопределенность подтверждала идею о бесконечной делимости материи, вызвав живой интерес философов, в частности такого большого философа, как Лейбниц*.
* ( Нельзя говорить о Лейбнице и Свифте, не вспомнив об исторических событиях начала XVIII века, требующих некоторых дополнительных объяснений. Один из крупнейших философов, Лейбниц был в то же время замечательным математиком и физиком. Официально он занимал должность архивариуса при ганноверском дворе. На этом посту Лейбниц зарекомендовал себя не только великолепным библиотекарем, но и первоклассным дипломатом, преданно пекущимся о благополучии и округлении владений своего повелителя. Он, несомненно, принимал деятельное участив в переговорах, которые привели в конце концов представителя ганноверского дома на английский трон. Прихода ганноверцев больше всего желали виги, стремившиеся отнять власть у потерявших популярность Стюартов. Поэтому многие считали, что Лейбниц лично замешан в интригах вигов. То, что он был членом английского Королевского общества (Английской академии наук), и весьма деятельным членом, еще больше сближало его с Англией.
Свифт, наоборот, принадлежал к числу сторонников Стюартов и, следовательно, был тори. Он принимал непосредственное участие в подготовке coup d'Etat (государственного переворота), ставившего своей целью передать трон, освободившийся поело смерти королевы Анны, сыну Якова II. Таким образом, Лейбниц и Свифт оказались в двух враждебных лагерях, причем оба играли заметную роль в политической борьбе своего времени. Нет ничего удивительного поэтому, что они питали друг к другу глубокую неприязнь. Чтобы убедиться во враждебном отношении Свифта к Лейбницу, достаточно взять в руки третью книгу "Путешествий Гулливера". Многие удивлялись ядовитому сарказму, с которым Свифт высмеял ученых Лапуты. Чем только не занимаются эти беспомощные прожектеры! Чтобы подобрать костюм нужного размера, измеряют человека с помощью секстанта, извлекают солнечные лучи из огурцов, пытаются овладеть всей премудростью будущих веков по способу, весьма напоминающему идею Эддингтона о печатающих па пишущих машинках обезьянах. [Винер имеет в виду замечание английского астрофизика Эддингтона, предложившего в качестве примера совершенно невероятного события случай, когда обезьяны, беспорядочно ударяющие по клавишам пишущих машинок, воспроизводят ряд классических литературных произведений.
Но Лапута Свифта - это ведь не что иное, как пародия на Королевское общество и на деятельность Лейбница! Стоит ли при этих условиях удивляться, что одна из самых ядовитых свифтовских стрел вонзилась в типично лейбницевскую картину: блоха, на ней блоха поменьше и так ad infinitum.
Между прочим, эта шутка не единственное свидетельство интереса Свифта к проблеме изменения привычных соотношений. Его вообще занимала мысль, что произойдет с миром и с индивидуумами, его населяющими, если люди, животные и все предметы внезапно резко уменьшатся или увеличатся в размерах.
Первые две части "Путешествий Гулливера" как раз и посвящены этой теме: в "Путешествии в Лилипутию" Свифт рассказывает о людях в двенадцать раз меньше нормального человеческого роста; в "Путешествии в Бробдингнег" - о великанах семидесяти футов высотой.
В обоих случаях, описывая последствия таких резких изменений, Свифт проявляет достаточное остроумие, но недостаточную проницательность. Он, например, не представляет себе, как могут отразиться подобные изменения на способности двигаться. Свифт и не подозревает, что, будь лилипуты человеческими существами из плоти и крови, они при своем росте обладали бы способностью прыгать на высоту, в несколько раз превышающую их собственную, а жители Бробдингнега оказались бы так ленивы и так связаны с землей, что вряд ли сумели бы находиться в вертикальном положении. (Прим. автора).)
Лейбниц представлял себе мир в виде капли воды или капли крови, так же кишащей мельчайшими организмами, как вода; одним словом, он считал, что мир совершенно лишен пустоты. Он предполагал, что все промежутки между живыми существами и внутри живых существ заполнены другими, более мелкими живыми существами. Это убеждение привело Лейбница к гипотезе о бесконечной делимости жизни и о непрерывности материи.
Представления Лейбница о мире, отражавшие в какой-то мере результаты микроскопических наблюдений того времени и подкреплявшиеся его собственными общефилософскими воззрениями, сказались также на созданной этим ученым новой интерпретации математики. Напомним, что Лейбниц был одним из двух создателей дифференциального и интегрального исчисления и ему, в частности, наука обязана обозначениями, которыми мы пользуемся до сих пор. Он не только рассматривал пространство и время как нечто делимое на сколь угодно малые части, но и отчетливо представлял себе, что величины, распределенные в пространстве и во времени, в каждом измерении характеризуются своей скоростью изменения. Типичным примером величины, распределенной в пространстве и во времени, является температура. Когда мы говорим, что температура падает со скоростью 10° в час, мы имеем в виду скорость ее изменения во времени. Если же мы говорим, что температура, падает на 3° при перемещении на одну милю к западу, мы тем самым определяем одну из присущих температуре пространственных скоростей изменения. При рассмотрении величин, распределенных в пространстве и во времени, естественные математические законы выражаются дифференциальными уравнениями в частных производных, связывающими между собой скорость изменения величины во времени и скорости изменения величины в пространстве в предположении, что эти скорости могут быть определены в каждой точке, т. е. что и пространство и время бесконечно делимы. Таким образом, Лейбниц, ратуя за непрерывность физического мира, стал выразителем взглядов, диаметрально противоположных атомизму.
С тех пор развитие физики довело и атомизм и теорию, основанную на представлении о непрерывности мира и материи, до высокой степени совершенства и полной непримиримости, далеко превосходящих все, что было достигнуто в этом плане во времена Лейбница. Молекулы только что нельзя было увидеть; существование изолированных атомов ясно следовало из всей совокупности данных химии. За пределами атома новые перспективы атомизма открылись в обнаружении электронов, протонов и многих других новых элементарных частиц, связанных с процессами, происходящими в атомных ядрах. В то же время теория, исходящая из непрерывности, стала очень ценным и практически необходимым орудием для изучения динамики газов, жидкостей и твердых тел и для исследования света и электромагнитных явлений. Столкновение этих двух важнейших на-правлений человеческой мысли, казавшихся совершенно несовместимыми друг с другом, и породило некоторые из главных проблем современной физики.
Коллизия, о которой здесь идет речь, начала оформляться около ста лет назад, когда Максвелл заложил основы того, что сейчас называется кинетической теорией газов. Согласно этой теории, газ состоит из беспорядочно движущихся частиц, называемых молекулами. При этом движения молекул могут быть нескольких независимых типов: молекула может двигаться .вверх и вниз, направо и налево, вперед и назад, и, кроме того, она может вращаться вокруг вертикальной оси и вокруг двух горизонтальных осей. Перечисленные движения исчерпывают все возможности, если предполагать, что молекула представляет собой твердое тело; часто, однако, это предположение оказывается неприемлемым, так как молекула явно совершает еще и некоторые внутренние колебания, типичные для упругой системы. Сосчитаем теперь полное число типов движения, или, как их называют физики, число степеней свободы одной частицы. Складывая затем числа типов движений различных частиц, образующих газ, мы можем определить число типов движения, т. е. степеней свободы всего газа в целом. Максвелл заметил, что, когда газ находится в состоянии внутреннего статистического равновесия, каждый тип движения обладает в среднем определенной энергией, причем эта средняя энергия для всех типов движения оказывается одной и той же. Это обстоятельство составляет содержание важнейшей теоремы, позволяющей связать температуру газа с другими его свойствами.
Отсюда вытекает, что способность заданного объема газа поглощать энергию зависит от числа степеней свободы, приходящихся на единичные объемы. Мерой такой способности поглощать энергию является величина, называемая теплоемкостью. Зная теплоемкость, мы можем определить, как много энергии будет содержать тело, находящееся в тепловом равновесии при заданной температуре. Если число степеней свободы, приходящихся на единицу объема, оказывается бесконечным, то это значит, что такое тело может поглотить бесконечное количество энергии и температура его изменится лишь на конечное число градусов; иначе говоря, это означает, что, поглотив конечное количество энергии, такое тело вовсе не становится более горячим. Если мы применим эти рассуждения к случаю непрерывной среды, которая, естественно, всегда имеет бесконечное число степеней свободы, то получится, что непрерывная среда всегда имеет бесконечную теплоемкость, т. е. что понятие температуры к такой среде неприменимо.
Но Максвелл был не только основоположником описанной выше кинетической теории газов; помимо того, он создал также теорию, согласно которой распространение света и электричества представляет собой колебания некоторой непрерывной среды, называемой светоносным эфиром. Этот эфир, как любая непрерывная среда, поглощая тепло, не должен становиться более горячим. Но движения светоносного эфира представляют собой радиацию, разными формами которой являются свет, рентгенов скис лучи, тепловое излучение и т. д., поэтому максвеллова теория эфира несовместима с тем, что радиация может иметь температуру. Эта теория вполне удовлетворительна, если применять ее к свободной радиации, распространяющейся в пустом пространстве, но она исключает возможность достижения равновесия между светом и материей, имеющей определенную температуру, т. е. такого равновесия, которое тем не менее реально имеет место, например, в раскаленной печи. Таким образом, для изучения процесса излучения света материальными телами требуется что-то большее, чем одна только теория Максвелла. Это "что-то большее" и было придумано Планком.
Планк обнаружил не только то, что радиация имеет температуру, но и то, что связь между этой температурой и характером соответствующей радиации задается определенной формулой, известной в настоящее время как формула Планка. Для того чтобы получить эту формулу, ему пришлось предположить, что радиация может получаться только вполне определенными малыми порциями, которые он назвал квантами. Работа Планка содержала, таким образом, первую формулировку квантовой теории современной физики.
Надо сказать, что девятисотые годы вообще оказались критическим периодом .в развитии научного мышления. Совсем незадолго до этого времени даже наиболее прозорливые ученые предполагали, что будущее столетие будет посвящено дальнейшему уточнению существующих физических теорий и что отныне открытия будут изменять известные формулы лишь во все более и более далеких десятичных знаках. Но около 1900 года квантовая теория разрушила некоторые основные идеи о непрерывности, относящиеся к полю излучения. Статистическая механика Гиббса в это время уже начала заменять детерминизм закономерным индетерминизмом, а оптический опыт Майкельсона и Морли, показавший, что скорость перемещения Земли относительно эфира никак не может быть измерена, оказался существенным звеном в цепи идей, приведших Эйнштейна к созданию теории относительности.
Эйнштейн сформулировал теорию относительности в 1905 году, в том же году он внес существенный вклад и в квантовую теорию. Он показал, что один из коэффициентов, характеризующих фотоэлектрический эффект -физическое явление, заключающееся в том, что поглощение света при некоторых условиях оказывается связанным с появлением электричества, - по величине и по размерности оказывается точно совпадающим со знаменитой постоянной, введенной Плавком в квантовую теорию. Семь лет спустя датчанин Нильс Бор обнаружил, что эта же постоянная может быть использована для количественного описания процесса излучения света атомами раскаленного газа.
Предложенная Бором теория излучения света атомом водорода была блестящей, но отнюдь не совершенной. Фактически она являлась поразительным гибридом, полученным с помощью прививки некоторых черт квантовой теории, исходящей из представлений о разрывности материи, к теории планетных орбит - типичной классической теории, рассматривающей мир как нечто непрерывное. Из этого неестественного скрещивания и родилась принадлежащая Бору модель атома, успешно объясняющая целый ряд наблюдаемых количественных закономерностей, но теоретически лишенная какого-либо единства. К 1925 году, когда состоялось мое выступление в Геттингене, мир начал настойчиво требовать такой квантовой теории, которая объясняла бы все наблюдаемые явления и в то же время была бы единой теорией, а не лоскутным одеялом, состоящим из пестрых, ничем не связанных и философски противоречивых положений.
Я тогда ничего не знал о напряженном интересе, который вызывала в Геттингене противоречивость квантовой теории. Однако случилось так, что мой доклад касался вопросов, чем-то родственных квантовой теории - в нем также рассматривалось поле, в котором применение обычных законов не могло быть распространено на любые сколь угодно малые размеры. Как я уже говорил, тема моего доклада относилась к области гармонического анализа, т. е. разложения сложных движений на сумму простейших гармонических колебаний. Гармонический анализ, усиленно развивающийся все последние годы в целом ряде различных направлений, имеет древнюю историю, восходящую еще к Пифагору, интересовавшемуся музыкой вообще и колебаниями струн лиры в частности. Известно, что струна может совершать множество различных колебаний, самые простые и элементарные из которых и называются гармоническими колебаниями. Движение струны музыкального инструмента на самом деле не является точно гармоническим колебанием, но оно представляет собой простую кобминацию колебаний и поэтому в виде первого грубого приближения все-таки может считаться гармоническим.
Посмотрим теперь, что на самом деле обозначают нотные знаки. Положение ноты выше или ниже на пяти нотных линейках обозначает ее высоту, т. е. частоту соответствующего колебания, последовательность нот по горизонтали определяет порядок следования колебаний во времени. Временные обозначения на нотной бумаге указывают относительную длительность звуков и пауз - целые ноты, половинные, четвертные и т. д., а также абсолютную длительность. Таким образом, на первый взгляд создается впечатление, что система музыкальных обозначений характеризует колебания в двух взаимно независимых отношениях: по частоте, и по длительности.
Более полное рассмотрение этого вопроса показывает, однако, что дело обстоит совсем не так просто, как кажется сначала. Число колебаний в секунду, указанное в обозначении ноты в виде характеристики ее частоты (или высоты), на самом деле также имеет отношение к временной протяженности. Поэтому частота ноты и ее распределение во времени запутанным образом взаимодействуют друг с другом.
В идеале простое гармоническое колебание - это нечто неизменно повторяющееся на протяжении всего времени от самого удаленного прошлого до самого удаленного будущего. В некотором смысле оно существует sub specie aeternitatis*.
* ( Под знаком вечности (лат.).)
Начало и окончание ноты неизбежно связаны с изменением ее частотного состава, может быть и малым, но всегда вполне реальным. Нота, длящаяся лишь ограниченное время, разлагается на целую полосу простых гармонических колебаний, и ни одно из этих колебаний не может рассматриваться как единственно существующее. Уточнение положения звука на шкале времени связано с увеличением неточности в значении его частоты, и, наоборот, более точное указание частоты влечет за собой большую неопределенность во времени.
Эти соображения имеют отнюдь не только чисто теоретическую ценность - они реально ограничивают возможности музыканта. Никто не может сыграть жигу* на нижнем регистре органа.
* ( Старинный английский народный танец, отличающийся быстрым темном.)
Если данной ноте соответствует частота в шестнадцать колебаний в секунду, а продолжительность равна одной двадцатой секунды, то получится всего одно сжатие воздуха, лишенное всяких следов периодичности. Естественно, что оно не прозвучит как определенная нота, а будет восприниматься барабанной перепонкой просто как отдельный толчок. При этом сложный механизм отражения импульсов, создающий музыкальное звучание органных труб, вообще не сможет даже начать действовать. В результате быстрая жига, сыгранная на нижнем регистре органа, окажется даже не плохой музыкой, а вообще не будет музыкой.
Связанный с этим парадокс гармонического анализа был важным пунктом моего доклада, сделанного в Геттингене в 1925 году. В то время я уже ясно представлял себе, что законы физики в каком-то смысле аналогичны Музыкальным обозначениям и что изложенные выше соображения могут оказаться вполне реальными и важными, хотя их и не приходится слишком принимать всерьез, если ограничиться рассмотрением лишь временных интервалов, не меньших некоторого весьма малого промежутка времени. Иными словами, я стремился подчеркнуть, что в музыке, как и в квантовой теории, имеется существенная разница между поведением, относящимся к очень малым интервалам времени (или пространства), и тем, что мы считаем нормальным поведением, выбирая при этом какой-либо привычный нам масштаб времени, и что безграничная делимость реального мира представляет собой понятие, которое в современной физике не может использоваться без специальных оговорок.
Для того чтобы выяснить связь этих моих идей с реальным развитием квантовой теории, мы должны заглянуть на несколько лет вперед и обратиться ко времени, когда Вернер Гейзенберг сформулировал свой принцип двойственности или неопределенности. В классической физике Ньютона частица может иметь в данный момент времени определенное положение и определенный импульс или, что почти то же самое, определенное положение и определенную скорость. Гейзенберг теоретически обнаружил, что в условиях, при которых положение частицы может быть измерено с очень высокой точностью, ее импульс или скорость могут быть измерены только с малой точностью, и наоборот. Эта двойственность имеет точно ту же самую природу, что и двойственность между высотой и длительностью в музыке, и, действительно, Гейзенберг объяснил ее с помощью того же самого гармонического анализа, о котором я говорил в Геттингене по крайней мере на пять лет раньше.
Главную роль в создании и первоначальном развитии квантовой механики в Геттингене сыграли Макс Борн и Гейзенберг. Макс Борн был гораздо старше Гейзенберга, но, хотя в основе новой теории, несомненно, лежали его идеи, честь создания квантовой механики как самостоятельного раздела науки принадлежит его более молодому коллеге.
Спокойный, мягкий человек, музыкант в душе, Борн больше всего на свете любил играть с женой на двух роялях. Ученый удивительной скромности, он получил Нобелевскую премию только в 1954 году, после того как сосватал нескольким своим ученикам темы, которые дали им возможность добиться этой чести гораздо раньше, чем ему самому.
Гейзенбергу в то время было немногим более двадцати лет, он совсем не отличался склонностью к самоотречению и вкусил радости успеха в самом начале карьеры. Постепенно он увлекся националистическими идеями, доставив своему учителю немало горьких минут. Борн переживал увлечение Гейзенберга особенно тяжело еще потому, что сам был евреем, а Гейзенберг в конце концов присоединился к нацистам.
Как я уже говорил, моя геттингенская работа не осталась незамеченной. Гильберт, Курант и Борн роняли время от времени замечания, из которых можно было понять, что я получу на следующий год приглашение приехать на некоторое время в Геттинген. Борн собирался в ближайшем будущем прочесть курс лекций в Массачусетском технологическом институте, и я хотел воспользоваться этим временем, чтобы поработать с ним вместе.
Профессор Борн прибыл в Соединенные Штаты в состоянии крайнего возбуждения, вызванного новыми строением квантовой теории атома, которое было только-что предложено Гейзенбергом. Эта теория имела существенно дискретный характер, и математическим аппаратом, который она использовала, являлись квадратные таблицы чисел, называемые матрицами. Разобщенность отдельных строк и отдельных столбцов этих матриц оказывалась связанной с разобщенностью отдельных спектральных линий в излучении атома. Но так как не все части спектра атома состоят из дискретных линий, Борна очень интересовала возможность обобщения таких матриц, или таблиц чисел, позволяющая прийти также к чему-то непрерывному, сопоставимому с непрерывной частью спектра. Подобное обобщение требовало большой специальной работы, и в этом вопросе он рассчитывал на мою помощь.
Я не могу здесь подробно рассказывать о своем участии в этой весьма специальной и в высшей степени абстрактной работе, имевшей в то же время лишь преходящее значение в общем развитии квантовой теории. Скажу только, что я в то время уже был знаком с обобщением понятия матрицы, представляющим собой то, что теперь называют операторами. Бори испытывал глубокое недоверие к обоснованности моего метода и страшно хотел узнать, получат ли мои математические измышления одобрение Гильберта. Гильберт отнесся к ним очень благосклонно, и начиная с того времени операторы неизменно играют существенную роль в квантовой теории. Примерно тогда же они были независимо введены в квантовую теорию и Полем Дираком в Англии. Помимо того, операторы оказались весьма полезными для установления связи квантовой механики Гейзенберга с еще одной формой квантовой механики, одновременно предложенной венским профессором Эрвином Шредингером.
С тех пор квантовая механика вступила в активную фазу своего развития. Целая группа молодых ученых - Дирак, Вольфганг Паули, фон Нейман, все приблизительно того же возраста, что и Гейзенберг, - чуть ли не каждый день делала какое-нибудь открытие в этой области. В такой обстановке лихорадочного напряжения мне, как всегда, работалось плохо. К тому же я не чувствовал никакой потребности заниматься вопросами, которыми интересовалось столько выдающихся ученых. Мне казалось, что некоторые философские идеи, вытекающие из моей старой работы о брауновском движении, могут быть с успехом использованы в квантовой механике; но проблемы, которые привлекали мое внимание, и тот круг вопросов, для разрешения которых я мог бы воспользоваться своим методом, в ближайшие двадцать лет так и не стали актуальными. В последние годы я снова вернулся к этой теме, на сей раз вместе с Арманом Зигелем из Бостонского университета, и у меня, наконец, появилась надежда сделать в этой области что-то полезное, что еще не успели сделать другие.
Рассказывая о своей работе - о той, которая уже сделана, и о той, которую еще предстоит сделать, - я все время помню (и читатель, надеюсь, тоже), что задача физики заключается сейчас совсем не в дальнейшем усовершенствовании уже существующей общей теории, основы которой совершенно ясны. Нынешняя физика представляет собой ряд отдельных теорий, которые еще ни одному человеку не удалось убедительно согласовать между собой. Кто-то очень хорошо сказал, что современный физик по понедельникам, средам и пятницам - специалист по квантовой теории, а по вторникам, четвергам и субботам - по теории относительности; в воскресенье он уже совсем не специалист, а просто грешник, истово молящийся богу, чтобы он кого-нибудь вразумил, желательно, конечно, его самого, и помог как-нибудь примирить эти две теории.
В Англии математики, как правило, работают в Оксфорде или Кембридже, где преподаватели и студенты живут единой жизнью. Немецкие математики известны своим умением с приятностью проводить Nachsitzung*. После окончания официальной дискуссии по поводу какой-нибудь научной работы все обычно отправляются в бар. Тут за кружкой пива прославленные и безвестные вместе обсуждают последние научные новости и беседуют о радостях жизни. Французские математики, наоборот, строго соблюдают табель о рангах: после того как профессор удалился в свой кабинет и расписался в журнале, где регистрируются лекции, студенты и младшие товарищи по работе для него больше не существуют.
* (Здесь: досуг (нем.).)
Адамар - редкое исключение из этого правила. Он живо интересуется студентами, считает своим долгом заботиться об их будущем, и любой из них всегда может к нему обратиться. Если нынешнее поколение французских математиков начинает ломать традиционный барьер, разделяющий маститых и начинающих ученых, то это, безусловно, личная заслуга Адамара.
Я сам многим обязан адамаровской широте взглядов. У него не было никаких оснований обращать особое внимание на юного варвара из Нового Света, делающего первые самостоятельные шаги. Никаких оснований, кроме доброжелательности и стремления открыть еще один талант, возникавшего у него каждый раз, когда он замечал хотя бы самые скромные способности.
Много лет спустя, встречаясь с Адамаром на различных математических конференциях, я бывал приятно поражен тем, что он помнит о нашей страсбургской встрече и внимательно следит за моими работами. Так случилось, что эта поездка на конгресс привела, в частности, к тому, что я пополнил собой многочисленный отряд математиков, питающих к Адамару чувство глубокой признательности и обязанных ему благополучием своей научной карьеры.
Для участников Страсбургского конгресса несколько раз устраивались интересные экскурсии, во время которых нам показывали достопримечательности города и окрестностей: Саверн, огромную полуразрушенную башню О-Бар, своеобразный старинный городок Кольмар и один из районов, где происходили бои во время первой мировой войны. Французские солдаты повезли нас к месту бывших сражений в военных грузовиках. На обратном пути произошла какая-то поломка. Когда после долгого и утомительного ожидания мы снова сели в машины и добрались до маленькой винодельческой деревушки Тёркхейм, где предполагался обед, нас там уже никто не ждал. Простывшую еду убрали со стола, и мэр просто преподнес каждому из нас два стакана местного вина - старого и молодого. Из вежливости мы выпили. Вино действительно было превосходно, но два стакана на пустой желудок - это довольно тяжелое испытание, не говоря уже о том, что молодое вино само по себе действует довольно сильно. Не мудрено, что по дороге в Страсбург, куда мы добирались поездом и на грузовиках, некоторые вполне почтенные ученые вели себя менее сдержанно, чем обычно.
После окончания конгресса наша четверка вернулась в Париж. Мы с Тэйлором собирались в Америку, а Мюррей и Уолш решили провести год во Франции. Им, конечно, хотелось войти в общество французов, и они довольно прозрачно намекали на то, что наше совместное пребывание не является для них таким уж большим благом.
Но оказалось, что мы лишены возможности добраться до Америки, так как "Ла Турен", на которой я приехал во Францию и собирался возвращаться домой, еще не отремонтировали после аварии. Весь по-осеннему неприветливый сентябрь и часть октября мы тщетно ждали возобновления рейсов, надеясь в самом крайнем случае вернуться в Америку к началу занятий в МТИ. Увы, наши надежды не оправдались.
Освободившись от всех дел, мы часами бродили по улицам. И хотя нас тревожила мысль, что столь длительное отсутствие может быть неблагоприятно истолковано в институте,
Париж доставлял нам огромное удовольствие. Поскольку пароходные агентства были объектом нашего постоянного внимания, мы в конце концов разузнали о новом американском пароходе, который как раз в это время начал совершать трансатлантические рейсы.
Среди немногочисленных, но интересных пассажиров преобладали заядлые любители путешествий. К ним принадлежали Оса Джонсон и ее муж, которые везли с собой ручного орангутанга из Индонезии. Благовоспитанность обезьяны приятно дисгармонировала с поведением их ребенка, который, как дьяволенок, врывался в курительный салон, где мы играли в шахматы, и норовил во что бы то ни стало разбросать все фигуры.
Я вернулся из Европы окрыленным. Как ни плохо владел я французским языком, за время пребывания во Франции мне удалось завязать дружеские отношения с моими коллегами. При этом выяснилось, что и в Англии и во Франции ко мне относятся с гораздо большим уважением, чем на родине. Кроме того, меня ждала работа, которая, по крайней мере мне самому, не говоря уже о некоторых других, казалась вполне удачной для начинающего ученого.
Я видел разрушения, которые принесла с собой война, видел их и в Бельгии, и в Эльзасе, где мы объезжали бывшую линию фронта. Но, побывав в Англии и во Франции, я понял, что европейцы обладают гораздо большими потенциальными возможностями внутреннего обновления, чем я раньше думал. Поэтому, несмотря на войну на Западе, несмотря на события в России и вопреки известиям о боях в Польше, у меня все еще оставалась надежда, что мировая война - не более чем эпизод, за которым последует период длительного мира и настанет что-то вроде великого благоденствия девятнадцатого века.
Что же касается России, то в то время казалось, что большинство русских все еще придерживается довоенных взглядов; поэтому можно было надеяться на то, что между Западом и Востоком снова установится равновесие, подобно тому как сгладились противоречия в Европе после бурных лет французской революции и наполеоновских войн.
Так или иначе, аппетит, как известно, приходит во время еды. Завязав какие-то связи в Европе, я с нетерпением ждал новой возможности отправиться за океан и еще ближе познакомиться с континентом, которому Америка обязана своей цивилизацией.
|
ПОИСК:
|
© MATHEMLIB.RU, 2001-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку на страницу источник:
http://mathemlib.ru/ 'Математическая библиотека'